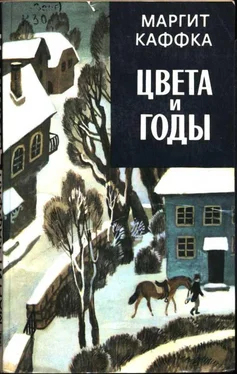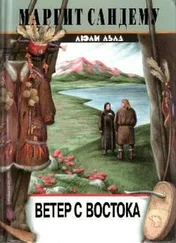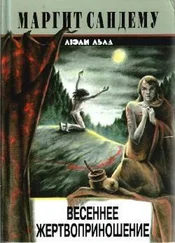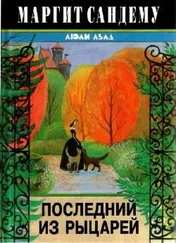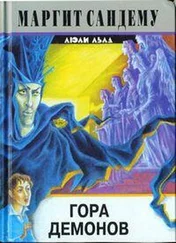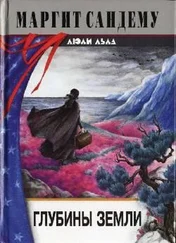Сколько еще придется претерпеть, пока эти подрастут! Да и новые могут быть… нет уж, избави бог. Если б сейчас удержала, не пустила… это еще действует на него. Но еще ребенок… этого я просто не вынесу. Лучше умереть! Сыта уже по горло.
С этим-то человеком, от такого отца! «Я их, что ли, хотел?» — звучит еще в ушах. И когда я носила их, как со мной обращался, как вел себя! Будто я одна всему причиной. Насколько же иным был в это время первый, покойный муж, — каким, чуть ли не виновато и благодарно заботливым, нежным. Да Ене — просто святой! Настоящий, цельный, глубоко чувствующий и совестливый человек, который сумел избрать смерть, проиграв свою жизненную партию. Жизнь он воспринимал очень серьезно и шел до логического конца по формуле «или — или». А этот, мягкотелый, слабодушный, витающий в облаках, скорее по принципу «все едино» слоняется по жизни, туда-сюда носимый волей случая, то выше паря, то оставаясь в сторонке; нет в нем, в его поступках настоящей положительности, веса. Что ему семья, жена, должность или ранг, работа? Главное: в любом положении чувствовать себя привольно, и это ему по сей день прекрасно удается. Вот человек!
И все-таки я его любила. Истинная ли то была любовь?.. Но ведь он и поныне владеет мной, мучает, возмущает, оскорбляет, — и во мне живет потребность обижать его, ненавидеть. И как-никак от него мои прелестные, здоровенькие, породистые дети.
Вон они посапывают, угревшись в белых подушечках, — круглые, красивые, румяные мордашки, шелковистые русые волосики (в отца!), мерно дышащие тепленькие тельца в мягком полусвете затененного абажуром ночника. Вот это в жизни — мое. И они когда-нибудь станут женщинами, как я. Но я не хочу, не желаю, чтобы их судьбы хоть настолечко походили на мою. И уж сумею об этом позаботиться! На это еще пригодится жизнь.
И опять годы… целые годы!
О той поре нет у меня иных воспоминаний, кроме единственной заботы: три пары детской обуви на каждый сезон и какие-никакие платьица в школу. Потому что у меня они должны быть одеты аккуратно и прилично, любой ценой… любой. Но каких препирательств, борьбы, вымогательств мытьем и катаньем у их отца все это стоило! Сколько, бывало, раз вытянешь у него из-под подушки, из бумажника десятку, когда, прокутив ночь, он погрузится в тяжкий, беспробудный сон и храпит до позднего утра. Эти случаи были самые подходящие, ведь и заметь он, нельзя было решить с подпой уверенностью: а не кассирше ли, не цыгану отдал ночью? С похмелья испытывал он даже нечто вроде стыда или угрызений совести и единственно только за умываньем позволял себе ругнуться под нос, отфыркиваясь и прополаскивая горло, пока вокруг уже вовсю шла уборка, и я сновала, поправляя, подчищая на ходу, подбадривая и подгоняя прислугу. «О господи, твоя воля! Куда я попал, до чего дошел? Шайка бандитская, разбойничье отродье… Совсем скрутила, в руки забрала. У, змея подколодная!»
Все это относилось ко мне. Вот как теперь у нас шло — и даже похуже. «Как же это получилось, как мы докатились?..» — спрашиваю я себя сейчас, на покое, в мирном одиночестве, со смягченной старостью душой. Да постепенно, боже мои, — постепенно ухудшались наши отношения, обращение друг с другом. И лишь слова — все резче, злей, необузданней и отвратительней — были, в сущности, знаками этого падения, вехами на этом пути под уклон. Да и что позволяет лучше судить о совместной жизни двух людей, о происходящем между ними, если не то, как они друг с другом разговаривают? Бывают минуты примирения, даже пылкой любви; но ни одно слово не падает бесследно. Сорвавшееся в минуту раздражения ожесточенное проклятье; злые, беспощадные попреки, уколы в больные места, ранящие сердце или тщеславие, растравляющие язвы прошлого и отравляющие самые заветные, деликатные воспоминания желчью безудержно кощунственной иронии; наконец, просто хула, брань, бессмысленные, вызывающе-безосновательные обвинения, самые невероятные порождения распаленной ненавистью фантазии, сбивчиво, на последнем дыхании выкрикиваемые друг другу, — все это только слова . Но ужасно по своей разрушительной силе их обратное действие на чувство. После, успокоясь, и устыдишься, и снова сблизишься; но каждая такая безумная, безобразная сцена влечет за собой новую, еще более чудовищную и губительную.
В крестьянских семьях, там, по крайней мере, дерутся. Отлупят хорошенько друг дружку — и перебесятся, дадут излиться почти физически мучительному возбуждению, нервному напряжению, но в нашем кругу это невозможно. Воспитание или другое что в последний момент удерживает мужчину, и ярость невыдернутой занозой продолжает саднить сильнее неудовлетворенного любовного влечения.
Читать дальше