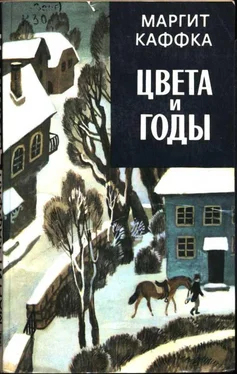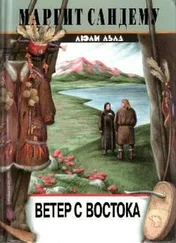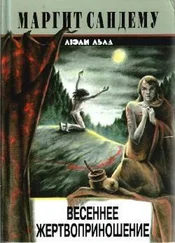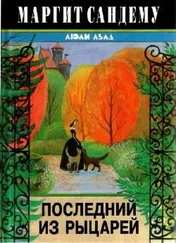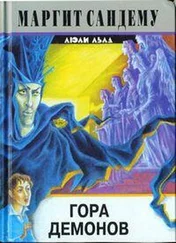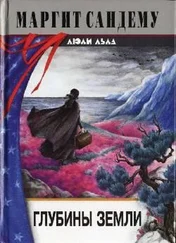— А хоть бы и так! Ну и покурим, посмеемся с ней. Все лучше, чем злобствовать. Кстати, она тоже ведь родственница тебе. Не стыдно с ней вздорить на людях всем на потеху из-за какой-то глупой ревности и по наветам цыганки этой?
— Забот у меня других нет, тебя ревновать. А вот людей выбирать, это ты умеешь. Даже из моей родни лучше не нашел.
— Да ну! А кто же лучше, скажи? Отчим твой ненормальный, который последний ум потерял за книжной белибердой со всего света, которой он себе забивает голову? С ним, может, подружиться? Сейчас вон книжку о здоровье изучает какого-то немецкого попа, прохвоста или идиота. Со всего базара народ сбегается поглазеть по утрам через забор, как он разгуливает босой по травке по крошечному палисадничку, а работник за ним с кувшином, водой ему голые икры оплескивает. И мне прикажете обливаться? Или с братцем твоим, небезызвестным Чабой, компанию водить? Которого из полка выгнали за то, что перед выступлением кивер да саблю заложил? И кого уже с третьего места увольняют, потому что даже в письмоводители не годится: каждое утро пьяным в канаве подбирают! Ничего себе, родственнички!
— Оставь их в покое! Другие, порядочные, уважаемые есть, трезвые и работящие; но им-то ты не нужен.
— Ну, еще бы… Иштван, непревзойденный Иштван, господин комитатский нотариус. Трех братьев уже успел до нитки обобрать; ну, что ж, если умишко у них… не куриный даже, курица как-никак зернышко себе найдет. Ладно, ему я не нужен, а вы с матерью нужны? Он сейчас с одними вельможами знается. Жена у губернаторши за камеристку, любимицей ее стала, платья вместе накупают за бешеные деньги, она и на воды ее с собой возит, и везде. У этой глупенькой гусыньки уже крылышки отрастают, глазки открылись и язычок развязался, а «трезвый, работящий» муженек только знай денежки выкладывай да помалкивай. Вот оно как в жизни-то все достигается, а?
— Подумаешь, достижение! Баронесса не Агнеш, а мне приходится двоюродной сестрой. Когда я за Водичкой была, скорее уж она за мной бегала, чем я за ней. Ну, а сейчас… жене по мужу цена.
— Да уж, конечно, чего я стою, жалкая, ничтожная личность, презренный, низко павший субъект, который и жену на дно потянул. Удивляться только приходится, что она еще пользуется его кровом — и подачками, которые этому гуляке и остолопу, шуту гороховому перепадают за его блюдолизничество. И которые она из его ночного столика выуживает по утрам, пока не проснулся, обшаривая все извилины его кошелька, — брезгливо, но тщательней какой-нибудь сороки любопытной.
— Что ж, хоть эту малость, да уберечь от девиц на Розмаринной.
— Браво! Какая осведомленность!
— А молока если не на что купить для твоих дочек, ни в чем не повинных? Прислуге заплатить? На дрова? Откуда мне взять? Все из тех же грошей, которые ты мне каждый день, как нищенке, подаешь?
— Ну, хорошо! Пойду попробую к кому-нибудь из твоих достойных родственников на ночь напроситься… на дармовщинку. Раз уж такой я дармоед.
Уже за разговором Денеш начал с толком, с расстановкой собираться, выколотил трубку, достал пальто, палку. Последняя реплика была лишь красивой фразой, — тем снисходительным, насмешливо-легким оборотом, который он хотел придать делу. И собирался неторопливо, как человек, с надеждой или по привычке ожидающий, что его остановят, будут уговаривать. «Нет, нет, иди, уходи поскорей и хоть вообще не возвращайся, один конец!..» — упрямо твердила я про себя, быть может, сама безотчетно боясь, что уступлю, остановлю, позову назад примирительным жестом или для виду продлю эту нашу некрасивую перепалку, постепенно ее смягчая, сведя к жалобам и просьбам. Или разрыдаюсь судорожно, отчаянно, бурно, чтобы он мог вернуться и, молча постояв, растерянно либо сокрушенно, провел наконец заискивающе рукой мне по плечу, по голове, полуобнял ласково. Или встану просто у дверей, загорожу дорогу, раскрасневшись, блестя возбужденно глазами, раздувая ноздри, но облегчив уже сердце, и рассмеюсь, сама за руку возьму его… Но все это уже было, эти стадии позади. Мы зашли слишком далеко. Четыре года супружества истощили мое терпение; да и его, наверно, тоже. «Нет уж! Пусть убирается, куда хочет!»
Но едва он ушел, меня стали душить горькие слезы. Ну, что это за жизнь! Он-то легко найдет себе утешение, а я буду метаться здесь в горячих подушках, места себе не находя, а несчастная малышка — пищать и кукситься всю ночь от моего нездорового, вредоносного, отравленного нервным возбуждением молока… Ему потаскушка накрашенная дороже… и эта прежняя его пассия, старая беззубая лиса, к которой он наведывается! Жаловаться, наверно, на меня, на свой несчастливый брак… А я даже ничего поделать не могу, острастки им дать, прикованная к этим трем. Да, славно меня отделала жизнь, заставила-таки поплатиться! И за что только, за что?.. Красота моя в последние годы заметно поблекла, фигура расплылась после стольких детей, вид неряшливый от постоянного кормления… Да, теперь и правда ничего больше не ждет впереди, кроме одной работы. Работы без остановки, без передышки, под колючим бодилом обязанностей.
Читать дальше