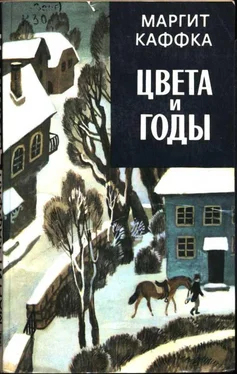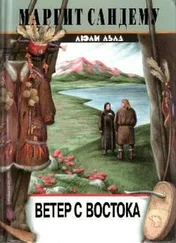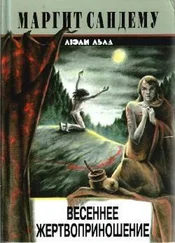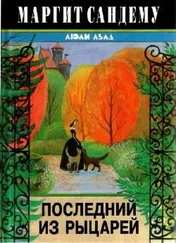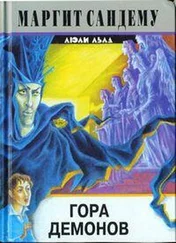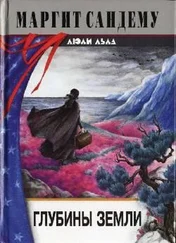— Ну, что пишет?
— Да ничего особенного.
— А где письмо?
И с простодушным еще недоумением глянул на меня.
— В печку бросила!
— В печку!.. Не читая? Почему?
— Так.
— Магда!
Страшно побледнев, вся дрожа, прислонилась я к шкафу.
— Магда, объяснись!
Ене встал, подошел, с ужасом в глазах в упор посмотрел на меня.
— Объяснись! Было… было между вами что-нибудь? Почему ты молчишь? Без причины писем не сжигают. Значит, знала, о чем он написал!
— Оставь меня! — с дрожью, но уже закипающим упрямым раздражением выдавила я. — Не спрашивай, все равно не поверишь, я вижу. Ну и не верь!
С искаженным от бессильной ярости лицом Ене схватил меня за плечи, встряхнул, но, сдержавшись, отшвырнул с ненавистью с дороги. Случайно или нет, я упала как, раз на оттоманку. А он ушел в спальню и заперся на ключ.
Я посидела немного, приходя в себя, трепеща от жалости и отвращения. Что же, всему конец? Вот она, изнанка жизни, нежно завлекательных романтических красот. Как он потрясен… Бедный, бедный. И все-таки ударил меня, ударил в моем положении, даже не расспросив. Боже мой, как жалок в этих случаях мужчина, беспомощен, уязвим, чуть ли не смешон. Что он там делает за дверью? Я встала, еле передвигая ноги, точно в смертельной усталости. Повертела дверной ручкой, подождала, окликнула, — никакого ответа. Тогда, превозмогая головокружение, надела меховое пальто, шляпу и ушла. Ноги сами понесли меня к дому гроси.
Встретила меня Агнеш. Я присела, но язык не повиновался мне от пережитого волнения. Она ничего не заметила. В обычной своей нудно-медлительной манере стала рассказывать о домашних неурядицах, о ребенке. Какой Иштван раздражительный, чуть заплачет ночью малыш, приходится брать на руки, уносить, а то побьет того и гляди. Так полночи и проходишь, пробаюкаешь, а скоро ведь родится другой. Доля женская, что поделаешь!.. И Агнеш покачивала красивой, как у мадонны, головкой, увенчанной пышной высокой прической.
— Я слышала, вы славно повеселились у Бельтеки! — заметила она вдруг.
— А вы чего не пришли? — спросила я, лишь бы сказать что-нибудь.
— Гроси не захотела! Нечего, говорит, в положении на новое платье тратиться. И что не годится молодой женщине бегать по гостям.
Я слушала с подступающей душевной дурнотой. Это же мой тайный враг, снедаемый завистью ко мне!
В ушах шумело, время от времени я прикрывала глаза. Как приятно: сидеть и не думать ни о чем. Все равно, ах, все равно! Только бы сейчас не тормошили, не расспрашивали. А там пусть делают, что хотят! Они сами знают что. Не моя забота!..
— Ну, как твой муженек? — спросила, присоединясь к нам, бабушка.
— Ничего!
— В Телегд-то когда, к маме и дяде Петеру?
— Не знаю.
— А меня вот что-то и не тянет, — с несвойственной ей доверительностью, неторопливо заговорила она, — нет, не тянет. Странные до меня доходят слухи.
— Будто?
— Да. Бывают же, прости господи, на свете чудаки! Отчим-то твой, Петер… Хоть в желтый дом запирай. А книги эти его идиотские, непутевые, на костре бы сжечь на базарной площади. Только над ними и корпит, жизнь свою молодую губит.
— Уж будто!
— Да знаешь ты, куда состояние твоей матери ушло, и без того небольшое? Все на эти машины, дорогие, бесполезные, да на постройки! Потому что, дескать, и «сельскохозяйственным рабочим» — так он мужиков величает — тоже сухие, здоровые и черт их там знает какие квартиры нужны. Каждому семейному батраку — отдельный домик подавай с садом да с полом настланным, — расписной, как на картинке; видел небось такую где-нибудь. Ну, а прежний отцовский амбар, знаешь, почему перестроил? Не туда окошком глядел, не на «преобладающий в этих широтах ветер». Вот осел!
— Господи боже мой.
— Ну и потом с мужиками-то своими обращается, ровно гошпиталь какой у него. Пальцем никого не тронь, конюху-мальчишке и тому лозы не даст. Потому как человеческое достоинство нельзя, видишь ты, оскорблять. Изгородь у него зимой покрали всю, на дрова разломали, а он созвал батраков и душеспасительную проповедь произнес им во дворе о «праве собственности». А? Что ты на это скажешь?
— Ужасно…
— А на будущий год не пшеницу сеять собрался, ее, мол, все сеют в Венгрии, почву истощают, а свеклу хочет сажать. Ему свекла доход будет давать. Свекла. Шут его подери! Яйца куриные выписал какие-то диковинные, из немецкого питомника, буковками на каждом обозначено, когда снесено, да какая курица, от какого петуха — породистых, значит, выводить. Они и вывелись, да передохли все, цыплята эти, втридорога купленные, хотя их молодым салатом в молоке подкармливали, ровно барышень каких!
Читать дальше