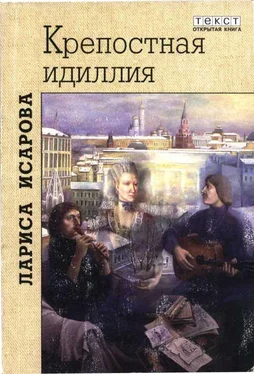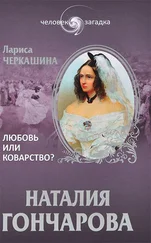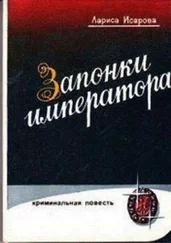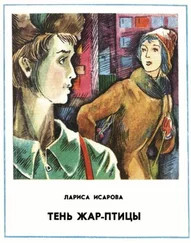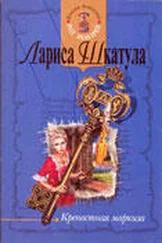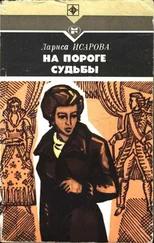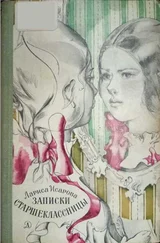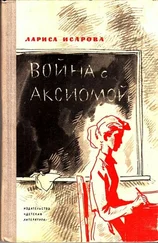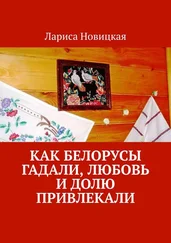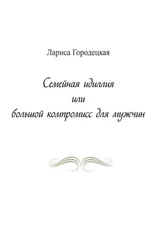К Петру I как нельзя лучше подходят слова, сказанные Анной Ахматовой о совсем другом человеке: «Он награжден каким-то вечным детством».
Ко всем наукам и ремеслам Петр подходил с любопытством и любознательностью ребенка, который губит насекомое, чтобы немедленно посмотреть, как у того все устроено внутри.
Его все интересовало: и литье пушек, и горные заводы, и коллекции минералов, и ремесло часовщика, штурмана, лекаря; он хотел всему научиться лично, уверенный, что для человека нет ничего невозможного. И он стал прекрасным плотником и навигатором, токарем, кузнецом, а также полководцем и законодателем, но так и не смог признать, что не все окружающие столь талантливы, как он, столь восприимчивы и самозабвенны в делах.
Его своеобразная детская избалованность сочеталась с упрямыми капризами, странными для взрослого человека. В Копенгагене он оторвал нос у мумии в музее, когда ему отказались ее подарить. В Дрездене, прибыв ночью, долго играл на барабане в цейсхаузе, а днем катался на карусели, заливаясь радостным детским смехом.
Ребячливость в сочетании с упрямством приводила иногда к удивительным последствиям. Однажды он узнал, что на марше для солдат полезно хоровое пение, и тут же, не имея подготовленного капельмейстера, повелел забирать небольшие органы из церквей Ливонии — армия шла покорять неприятеля под звуки благозвучной музыки.
Как у каждого ребенка, у Петра были свои любимые «игрушки». Больше всего он любил море и свой «Парадиз» — новую столицу, Санкт-Петербург.
Он верил, что на море, на палубе, во время любой бури, неуязвим перед людьми и судьбой. Азарт борьбы со стихией вспыхивал так жарко, что выжигал страх. Прошлое затягивалось туманом. Ничто в эти минуты ему не грозило, не пеленало неуверенностью, мнительностью, малодушием. Но конечно, не только возможностью проявить личную отвагу привлекала его морская стихия. Он хотел дать стране выход к морям, считая, что без портов на Балтийском и Черном морях Россия слепа и глуха. И он же сказал во время Каспийского похода господарю Кантемиру, поздравившему его с победой: «Я не ищу новых земель. Я ищу только воду».
Еще и потому Петр так любил свой «Парадиз», свой Петербург, что он стоял на воде. С 1704 года в новую столицу присылалось ежегодно со всей страны по сорок тысяч рабочих. Император мечтал сделать этот город не хуже признанных европейских столиц. И даже их превзойти.
С началом первых преобразований Петра стали называть в народе Антихристом. В немалой степени этому способствовали его необычные отношения с церковью. Петр прекрасно знал каноны, сам пел на клиросе, соблюдал отдельные обряды. Но в то же время создал Всепьянейший собор, на котором пародировались многие атрибуты церковной службы. От православия Петра отталкивала догматичность и категоричность; он, будучи бунтарем по натуре, не желал полностью подчиняться церковной власти. Он отменил патриаршество, учредил в 1721 году Святейший Синод и должность обер-прокурора, которому вменялось следить за исполнением церковниками законов Российской империи. Это не могло не вызвать противодействия со стороны церкви. Как писал Фоккерод в своем труде «Россия при Петре Великом», «император решил добиться, чтобы духовенство после отмены сана патриарха признало его своим повелителем. А в это время один русский из простого звания, Талицкий, изучивший в Москве книгопечатание, тайно завел в деревне печатню и обнародовал книжечку, в которой доказывал, что Петр — Антихрист, потому что стрижением бород позорит образ Божий, призывает резать и распластывает людей по их смерти, попирает церковные уставы и другие, какие только есть, вводит нелепости. Талицкого скоро открыли и в награду за его труд сжили с белого света. А творение его взялся опровергать один монах, уроженец Львова по имени Стефан Яворский, незадолго перед тем пришедший в Россию в поисках счастья. Труд его, правда, вышел плох… Одно из доказательств, почему Петр не Антихрист, выводилось из того, что Антихристово число 666 никакой каббалой нельзя было составить из имени Петра. Но в стране слепых и кривой — царь: это произведение так понравилось Петру, что он велел распространять его посредством печати, а Яворского назначил Рязанским епископом».
Первый министр герцога Голштинского, Бассевич, напротив, подчеркивал в своих «Записках», что «царь уважал обряды своего вероисповедания… Часто, обладая сильным голосом и верным слухом, сам принимал на себя управление хором. Распоряжение, сделанное им о переводе Библии на русский язык, окончательно убедило, что он никогда не думал касаться самой религии, а имел в виду только чрезмерность богатства и власти духовенства, которое злоупотребляло как тем, так и другим».
Читать дальше