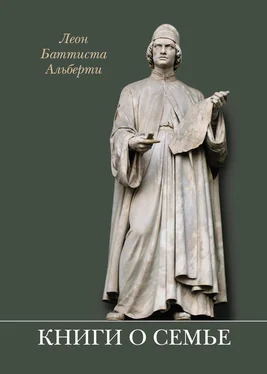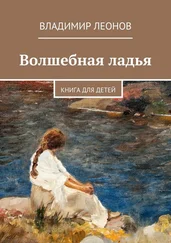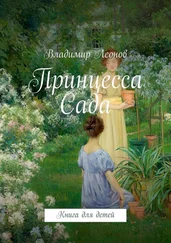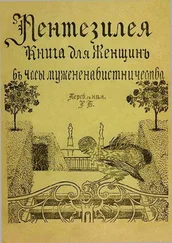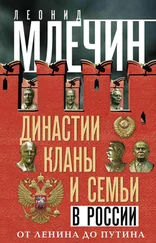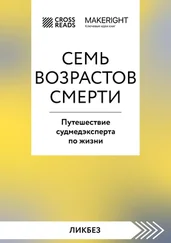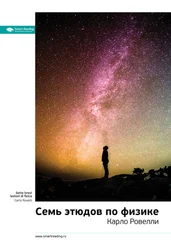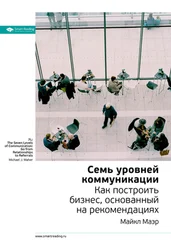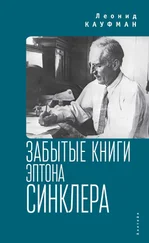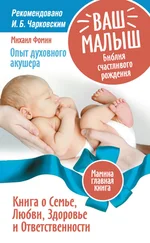Речь Лоренцо важна во многих отношениях: он не только передает отеческую auctoritas над своими двумя сыновьями брату Риччардо, который пока только упоминается, а также Адовардо, Лионардо и всей семье, но и намечает большую часть тем произведения, формулируя принципы, лежащие в основе его дидактической концепции: начиная с идеи о необходимости добродетели, заимствованной из стоицизма [267] Ср. особенно De familia, I 74–86.
, до рассуждений на тему «быть и казаться»; от тезиса о преобладающей роли отца в воспитании детей до заповеди уважения к «старшим», «старикам», и до их долга руководить юношеством. Будучи связующим звеном между семейным прошлым, наследником которого он является, и будущим, представленным Баттистой и Карло, Лоренцо предстает также в качестве гаранта преемственности, исторической памяти и славных традиций своего рода: именно этим объясняется обращение к фигуре его собственного отца Бенедетто и его заветам. С другой стороны, как мы уже отмечали, в разговоре Лоренцо и Адовардо прослеживается равнозначность понятий родства и дружбы, родственников и друзей, взаимодополнительность которых, и в некоторых случаях тождество, выступают с большой четкостью.
Первый акт заканчивается строками 513–516 и занимает около пятой части книги I: после прибытия – врачей близкие покидают комнату Лоренцо, которому нужно отдохнуть, и переходят в другое помещение дома, а именно, «в залу» [268] Ibid., I 516: «noi usciti fuori in sala […]».
. В соответствии со старинной практикой нам сообщает об этом непосредственно автор-рассказчик; так происходит и в остальных случаях, когда, особенно в книгах III и IV, смена декораций или обстановки приводит к небольшим паузам, а затем к переходу и возобновлению беседы. При этом снова, но под другим углом, рассматривается временно отставленный в сторону предмет в связи с прибытием новых действующих лиц, или вводится новая тема, углубляющая или имеющая отношение к ранее затронутым сюжетам.
Речь Лоренцо, его привязанность к сыновьям и забота о них растрогали присутствующих; поэтому вполне естественно, что речь заходит об отеческой любви, которую Адовардо считает самой сильной, а также «самой прочной, постоянной и бескорыстной» [269] Ibid., I 528.
. После этого первого упоминания о «силах любви» и могуществе страстей (affezioni d’animo ), о котором свидетельствует «вся история и людская память» [270] Ср. ibid., I 525 ss.: «sono le storie e la memoria degli uomini piene di queste forze, le quali simili affezioni d’animo in molti hanno provate».
, беседа сосредоточивается на многочисленных заботах и обязанностях отца с момента рождения ребенка. Предметом обсуждения становятся последовательно поиск и выбор кормилицы (обращение к этой теме вызывает ожидаемое отступление по поводу «кровного» и «молочного родства» [271] Cp. ibid., I 763–779 et 838–892. Относительно этого определения и исторического описания проблемы применительно к ренессансной Флоренции см. Christiane Klapisch-Zuber, «Parents de sang, parents de lait: la mise en nourrice ä Florence (1300–1530)», dans Annales de Demographie historique, 1983, p. 33–64 – tr. it. dans Ead., Lafamiglia e le donne nelRinascimento a Firenze, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 213–252.
), риск погибнуть для младенца и беспокойство, которое отцы должны испытывать по этому поводу [272] Cp. De familia, I 785–800 et 893 ss. Излишне говорить, что историческая реальность эпохи делает эти замечания вполне конкретными, ибо детская смертность во Флоренции в 1424–1427 гг. достигала высоких показателей. См. David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs families: Une Otude du catasto florentin de 1427, Preface du Pr. Philippe Wolff, Paris, Presses de la Fondation Nat. des Sciences Politiques-Edd. de lT.H.r.S.S., 1978, ch. XVI, в частности, p. 456–462.
, обучение и воспитание детей, наконец, взаимоотношения между отцами и сыновьями.
Эта последняя тема, которая разрабатывается наиболее подробно, включает в себя целую «теорию знаков и примет», позволяющих отцам распознавать наклонности детей и на этом основании определять, к какому виду деятельности их готовить с учетом статуса и положения семьи, а также конъюнктуры и «благоприятствующих обстоятельств» [273] Ср. в особенности De familia, I 988 ss., 1080–1300 et 1863 ss.
. С точки зрения задачи и идейного содержания книги это наиболее оригинальная и новаторская часть, в которой гуманистическая культура, известная своими революционными программами, а также связью с античной литературой, поэзией и риторикой, но мало понятная в плане методов обучения и практики образования [274] По меньшей мере прискорбно, что мы не располагаем углубленным исследованием, которое включило бы эти страницы в их исторический контекст. См. тем не менее по педагогике и гуманистической школе Eugenio Garin, Eeducazione in Europa, 1400–1600, Bari, Laterza, 1976 3 , особенно главы III и IV, р. 87—148 (на р. 142 ss. важные замечания об Альберти и De familia)', Id., Eeducazione umanistica in Italia, Bari, Laterza, 1975 (антология текстов); Paul F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning, 1300–1600, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1989 (в частности, о программах отдельных центров и их эволюции); Robert Black, Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy: Tradition and Innovation in Latin Schools from the 12 th to the 15 th Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
, переводится в методологическую плоскость педагогической теории. Как бы то ни было, опираясь на ряд примеров и на авторитет древних, эта теория знаков и примет вводит целый ряд дополнительных соображений, адресованных отцам, и конкретных воспитательных рекомендаций [275] Cp. ibid., 1989–2151.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу