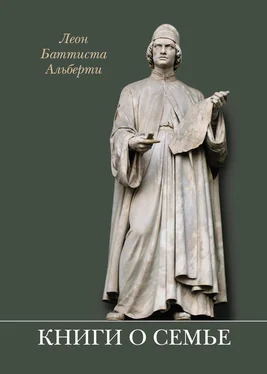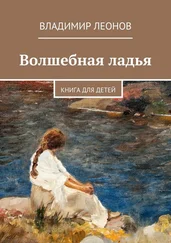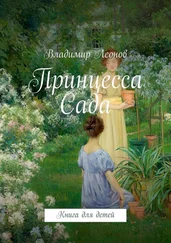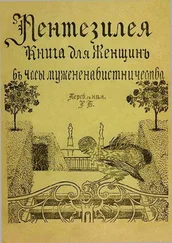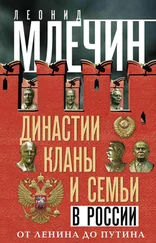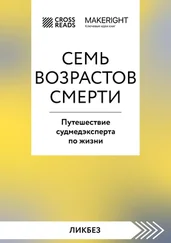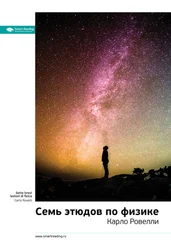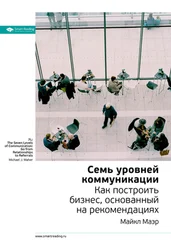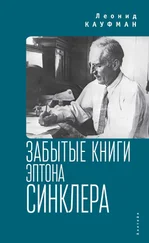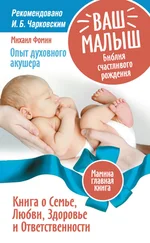Если это так, то диалог ставит перед своим автором задачу размышления о самой природе знания и его обретения, и предполагает веру в полезность и даже необходимость коллективного исследования, того «совместного испытания» мнений и знаний, к которому приглашаются, как можно убедиться, и наименее склонные к откровенности собеседники Сократа. Специфика истинного диалога заключается в этом смысле в его способности превращать правдоподобие и подражание, то есть мимезис, в поиски истины. Несомненно, именно эта способность объясняет тот факт, что древние считали диалог наиболее подходящей формой философской мысли. Впрочем, мы не намерены употреблять здесь термины «философ» и «философия» исключительно в профессиональном и «техническом» значении; напротив, нас интересует их первоначальный, этимологический смысл, ибо только в этом смысле можно утверждать, что диалог с самого начала являлся миметическим жанром, тесно связанным с философией.
Итак, эти совместные поиски истины можно вести, очевидно, разными способами. Один из первых – способ Сократа [218] Возможно, он и не был первым, так как изобретателем диалектики был Зенон Элейский. Однако уже Диоген Лаэртский (III 48) считает Платона «подлинным отцом диалога».
; он древнейший из тех, что нам достаточно известны, но есть и другие. Этот способ, майевтика, предполагает наличие довольно тесного контекста вопросов и ответов, которым Сократ пользуется, чтобы изобличать очевидное, чтобы заронить сомнение в уме собеседника, пригласить его идти дальше и глубже и не столько привести его к истине, сколько вести его к истине, которая в конце концов часто остается скрытой [219] В апоретических диалогах: Хармид, Гиппий старший, Лизий, Евтифрон…, которые не разрешают «предварительно поставленного вопроса» и ведут к «круговой диалектике, [с помощью которой] Платон как бы предупреждает нас, что «[…] никакая формула […] не приведет нас к познанию исследуемого предмета» (Victor Goldschmidt, Les dialogues de Platon: Structure et methode dialectique, Paris, P.U.F., 1993, p. 75). Об апоретических диалогах в целом см. V. Goldschmidt, ibid., §§ 13 ss., но ср. также Holger Thesleff, Studies in the Styles of Plato, Helsinki, Societas philosophica fennica – Akateeminen Kirjakauppa, 1967, в частности, главу II («Technique of Composition and Dialogue Structure»).
. Ведь Сократ никоим образом не является обладателем истины: в противном случае платоновский диалог никогда не появился бы на свет – в то время как он предполагает неравенство (в плане возраста и опыта) своих персонажей, в чем упрекал его Сигоний [220] С .De dialogo liber, в кн.: Caroli Sigonii Opera omnia edita et inedita, cum notis variorum illustrium virorum, et eiusdem vita a Cl. L.A. Muratorio […] conscripta, Phil. Argelatus Bononiensis nunc primum collegit suasque animadversiones […] adjecit, Mediolani, In sedibus Palatinis, MDCCXXXVII, t. VI, col. 454c.
. Он располагает лишь методом, основанным на его eiröneia . У этого метода есть свои недостатки, как явствует из эпилога «Теэтета» (210Ь-с), и поэтому он может быть отставлен в сторону. Этим Платон и занимается в своих более поздних диалогах, начиная с «Софиста» и «Политика», где последовательное рассуждение сменяется рядом вопросов и ответов, до «Тимея» и «Филеба», в которых просматривается трактат, и до «Законов», где Сократ уже не появляется. Удаляясь от жизни, философия одновременно удаляется и от диалога, который превращается в рассуждение или в чистый рассказ и от которого остается только форма, сохраняемая Платоном, несомненно, из уважения к сократической традиции [221] Cp. Michel Ruch, Le prooemium philosophique chez Ciceron: Signification et portee pour la genese et l’esthetique du dialogue , Paris, Publication de la Faculte des Lettres de Strasbourg, 1958, p. 37. Но следует обратиться к гл. 3 первой части («Evolution du dialogue platonicien») на p. 31 ss.
.
По свидетельству Цицерона (De oratore , III 80), Аристотель знаменует переход к новому методу, распространившемуся в философском преподавании Академии: disputatio in utramque partem (обсуждение с разных сторон). Другими словами, простившись с изложением или рассуждением от лица одного человека ( logos ), в значительной части характеризовавшим последние произведения Платона, он возвращается к диалогу, противопоставляя одно рассуждение другому. Это новшество, вне всякого сомнения, отвечало философскому требованию «технического» порядка: хорошее обоснование требует противопоставления, стало почти невозможным учитывать мнение каждого собеседника; как пишет М. Рюш, чрезмерная масса знаний «не умещалась больше в сократическую форму беседы» [222] Ibid. , p. 65.
. Тем не менее оно способствовало возрождению диалога, впрочем, у Аристотеля диалогическая форма остается ограниченной рамками школы как средство философского преподавания и «логической гимнастики», а также упражнение в красноречии, [223] Cp. Nicola Abbagnano. Dizionario di filosofia, Torino, U.T.E.T., 1971 2 , s.v. «Dialettica».
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу