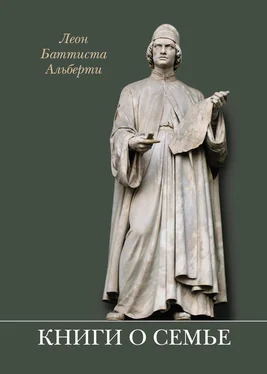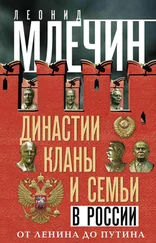Дискурс Альберти явно и неизбежно предвещает, как и его методологическая концепция, грядущие научные и философские дискуссии. Именно об этом говорил Эудженио Гарэн, сближая диалог Альберти как нельзя кстати со Spaccio /«Изгнанием торжествующего зверя»/ Бруно, и уже Эрвин Панофски подчеркивал преемственность в подходе к измерению и представлению пространства между сочинениями Альберти о живописи или скульптуре и творчеством Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера [216] Ср. особенно Eugenio Garin, «Studi su Leon Battista Alberti», dans Id., Rinascite e Rivoluzioni: Movimenti culturali dal XIV al XVII secolo, Roma-Bari, Laterza, 1976, p. 131–196: 140–141; а также Erwin Panofsky, Meaning in the visual arts (1955) – фр. перевод Marthe et Bernard Teyssedre: Eceuvre d’art et ses significations: Essais sur las «arts visuels», Paris, Gallimard, 1969, в частности, p. 83–96 (i.e. 2 e partie: «L’Evolution d’un scheme structural»); Id., Idea (1924).
.
Обращаясь к lusus’y, мы имеем дело с третьей группой текстов, независимо от того, относил ли их автор к этому жанру (то есть к «играм» или «забавам»), или нет; все они написаны на латыни и представляют собой самую оригинальную и богатую главу в судьбе наследия Лукиана в эпоху Ренессанса, даже в сравнении с главой, вписанной в нее Эразмом, и в них прослеживается общая критическая логика. Всех их отличает несомненный вкус к парадоксам, непритворный скептицизм, горькая и насмешливая ирония. Их излюбленными мишенями являются самые расхожие мнения и самые незыблемые ценности, которые подвергаются осмеянию и «деконструкции» с помощью априорно скептического подхода, заставляющего видеть весь мир лишенным смысла и разумного основания. Люди и их поступки представляются в этом случае всего лишь как один из главных факторов дезорганизации и смуты. Но по правде говоря, ничто не может противостоять иконоборческому неистовству, направленному сразу и против богов, и против их существования, против морали человеческих существ (как мужчин, так и женщин), против их веры, семьи, здравого смысла, против самой возможности культуры. В этом отношении, имея в виду и «Мома», и Intercenales, и Vita sancti Potiti, Canis, Musca , даже автобиографию Альберти ( Vita ), можно говорить о явном предвосхищении живописи Иеронима Босха и о раннем рецидиве вольнодумства, развивающегося с конца XVI века и на всем протяжении XVII и XVIII столетий. Но если для этого Альберти прибегает к использованию приемов и средств выражения как трактата, так и диалога, то лишь для того, чтобы лучше понять их изнутри: таким образом, часто диалог претерпевает изменения, однако они лишены каких бы то ни было миметических свойств, какого бы то ни было изъявления герменевтических устремлений, кои, впрочем, в его творчестве всегда присутствуют. Таким образом, не будет слишком смелым утверждение, что речь идет о своего рода «духовных упражнениях», очистительный смысл которых состоит, напротив, в том, чтобы снова подтвердить жизнеспособность трактата как жанра и «позитивного» диалога, воплощающего собой «домашнюю и семейную беседу» книг «О семье».
2. Диалог: античные модели и методы
Поиск правдоподобия, достоверности беседы, правдивое изображение персонажей и окружающей их обстановки, наконец, «реализм», особенно в Риме, в самом выборе собеседников: если следовать аристотелевской традиции, к автору всегда предъявлялось одно и то же незыблемое требование – подражать жизни и воспроизводить ее. Его искусство заключалось прежде всего в том, чтобы запечатлеть людей, их поступки, определенную среду. К этой цели можно идти разными путями и понимать ее по-разному; тем более, что изображаемая реальность и жизнь проявляются в разных формах, меняются от одной эпохи к другой, от места к месту. В частности, римлянин Цицерон и грек Платон демонстрируют довольно несхожие друг с другом художественные концепции и расходятся в их существенных частях. Тем не менее в обоих случаях они остаются подражательными и выражаются прежде всего в «мимезисе». Именно в этом заключатся, по нашему мнению, характерная черта диалога, разумеется, не исключительная, но неотъемлемая и в каком-то смысле структурообразующая. Если мы попытаемся лишить диалог этой черты, если она отсутствует в диалоге, последний исчезает как жанр, уступая место рассуждению, перемежающемуся искусственно вставленными вопросами, но становящемуся похожим скорее на настоящий дидактический трактат. Противоположное утверждение будет не менее справедливым, так как для написания диалога недостаточно представить школьный учебник в форме длинных анонимных ответов на краткие, но также анонимные вопросы; в лучшем случае, мы получим некий катехизис [217] По мнению Рудольфа Хирцеля (Der Dialog: Ein literarhistorischer Versuch, Leipzig, S. Hirzel, 1895 [= Hildesheim, Georg Olms, 1963], t. II, p. 364), этот тип псевдодиалога восходит к responsiones римских юристов. Классическим примером являются Partitiones oratorice, написанные Цицероном для обучения его сыновей красноречию.
из тех, что во множестве производила Церковь, начиная с заката греко-римской цивилизации и на протяжении всех Средних веков, когда дух диалога и потребность в нем среди людей испаряется при неземном свете сверхъестественного откровения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу