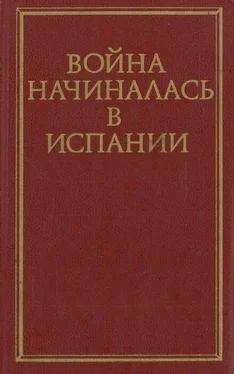Мне все вдруг стало ясно… Непонятно каким образом — ведь я всегда хранил полное молчание об этой рукописи — им стала известна моя тайна… Поэтому-то меня и преследовали… А значит, этой ночью придут арестовывать.
Я поднялся и, весь дрожа, направился в кухню с увесистой папкой в руках. Там я взял спички и пошел в туалет. Но когда, стоя над унитазом, я чиркнул спичкой, чтобы поджечь этот ворох бумаг, мужество оставило меня. Ведь над ними я трудился более двадцати лет… Конечно, пока это были не более чем разрозненные записи, заметки, никак не соединенные между собой. Но значили они для меня гораздо больше. Это была надежда, что однажды все изменится, что однажды я стану свободным и рукопись, которой я посвятил большую часть своей жизни, приобретет смысл и ценность… А сейчас я сам собирался превратить ее в горстку пепла. Это было все равно что сжечь самого себя…
Помню, как я вернулся в комнату с папкой в руках и рухнул на постель. Нет, сжечь это я не мог… Несколько часов, не раздеваясь, пролежал я на постели, погрузившись в состояние прострации. Я знал, что должно произойти что-то ужасное, и эта уверенность парализовывала меня. Но в то же время я чувствовал неспособность оказать какое бы то ни было сопротивление надвигавшемуся. И так я лежал, напряженно ожидая неизбежного, со слепой религиозной покорностью перед лицом неотвратимой судьбы… Так пролежал я несколько часов и наконец заснул… Тогда-то мне впервые и приснился тот сон. Меня пытаются разубедить, но я-то знаю, что было именно так. Все остальное — не более чем желание запутать меня, поймать в расставленные сети. К тому же после, все чаще, хотя и с различными вариациями, сон этот возвращается ко мне. Но до той ночи он никогда мне не снился.
Небольшое селение на юге нашей страны. Улицы чисто выбеленных домов ведут к узкой полоске пляжа с крупным грязным песком. Натянутые сети. Лодки, перевернутые на песке.
Ноги при ходьбе увязают. Идти трудно. Я едва передвигаю их в этом вязком, как клей, песке. Иду, высоко поднимая тяжелые, будто свинцом налитые ноги, навстречу лодке, которая плывет к берегу.
У двух людей, выпрыгивающих из нее, нет лиц. У них есть головы — кажется, на картине Чирино я видел что-то подобное, — а вместо лица пустой овал. Возможно, поэтому они кажутся одинаковыми. Я не помню ни их фигур, ни одежды. Только захлестнувший меня ужас.
Я бегу по узкой извилистой улочке беленых домов. Она беспредельно удлиняется, кажется, ей не будет конца. А под ногами — темный, вязкий песок, как и на пляже, в нем глубоко увязают мои ноги, и, чтобы вытащить их, нужно прилагать неимоверные усилия. Я не вижу своих преследователей, но чувствую постоянно за плечами их тягостное присутствие. Передо мной — открытая дверь, за ней — спасение.
В мрачной и прохладной прихожей слышится назойливое жужжание летней мошкары. Затемненный коридор ведет к закрытой двери. Я толкаю ее. В первую минуту меня ослепляет свет. За столом перед раскрытой папкой с множеством машинописных листов сидит человек; неподвижный, с головой погруженный в свои мысли, он, кажется, не замечает моего присутствия. Берет один из листов. Бережно, почти любовно вырезает из него бумажного человечка. Потом открывает альбом с черными обложками и очень осторожно наклеивает человечка на одну из его страниц. Я стою неподвижно и молча. Я знаю, что эта папка — моя, что тот листок написан мною. Оглядываю стены комнаты. Повсюду цветные литографии с изображениями Пресвятой Девы, которая, кажется, сверлит вас взглядом… Я отделяюсь от земли, как прыгун в высоту, снятый замененной съемкой… В своем медленном полете легко проникаю через стену… Сначала я не узнаю ни места, ни спутников… И вдруг все становится ясным — направляемся к кладбищу. Хоронят профессора, и меня окружают мои друзья — В., М., А., С. (хотя довольно странно, что С. находится здесь, ведь его уже больше года нет в живых). Но с другой стороны, похороны совсем не те. Мы идем пешком за катафалком, который везут лошади, а кладбище, куда мы идем, — кладбище в небольшом городке, где прошло мое детство. Все происходящее очень похоже на проводы нашего школьного преподавателя физики — мы шагаем двумя рядами за катафалком, построенные по классам, а на лицах у нас написано деланное сожаление… Только теперь мы хороним профессора, и мы уже не дети, а взрослые, соратники по оппозиции, интеллектуалы, выступающие против режима, — В., М., А., С. (С., который умер больше года назад…). Мы идем по дороге, обсаженной рожковыми деревьями, платанами и каштанами, к ограде, из-за которой виднеются стройные верхушки кипарисов. Прекрасный день. Солнце, мягкое и ласковое, озаряет небо цвета индиго, в воздухе разлит аромат смородины, и монотонный звон колоколов, вызванивающих с белой колокольни по усопшему, медленно поднимается, смешиваясь с торжественно кружащими в небесной голубизне орлами. Во сне я отчетливо различаю цвета и не нахожу в этом ничего странного или противоестественного. Именно в такие дни мы прогуливали занятия в школе и приходили на склон, где было расположено кладбище, чтобы съесть тут принесенный из дома завтрак, хлеб с сыром, а осенью и весной расставить силки на непоседливых коноплянок. Но сегодняшний день не для радостных детских забав… Хоронят учителя, и вот мы уже стоим вокруг вырытой могилы, пока мужчины на крепких веревках опускают туда гроб… Двое могильщиков начинают забрасывать яму землей… И в этот момент я с ужасом вижу, что у них одинаковые пустые овалы вместо лиц, нет ни бровей, ни глаз, ни носа, ни рта, ни волос — лишь пустота, которую надо заполнить. Я вижу эти пустые лица — лица моих преследователей, вижу, как они склоняются надо мной сверху, засыпая меня землей… Ведь это я лежу в могиле, внутри гроба, через крышку которого видно, как они взмахивают лопатами; и земля, падая на крышку гроба, давит неизбывным тягостным грузом; эта невыносимая тяжесть лишает воздуха мои легкие, наполняя их страшным смятением — оно растет и в конце концов взрывает мой сон на тысячи кусочков, оставляя мне сладостное утешение проснуться. Я радостно вздыхаю — наконец-то живой, освободившийся от гнетущего кошмара…
Читать дальше