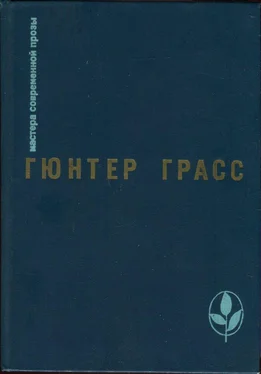Сделай, что ты задумал. Когда никто ничего не делает, все идет своим чередом. Я на твоем месте точно сделал бы и еще кое-что посерьезней. Вот, например, та плавучая база для подводных лодок. Тогда шла война. Всегда идет война. Для этого хватает причин. Хватало. Правда, я не уверен, что это были мы, а не ученики у Шихау [54] Шихау, Фердинанд (1814–1896) — владелец машиностроительных заводов и верфей.
, которые под предводительством Мооркене создали свой собственный ферейн, их пускали на территорию верфи, ведь плавучую базу поставили в сухой док на ремонт, но на ней осталась команда; пожар занялся сперва на палубе, потом перекинулся внутрь, фенрихи и кадеты пытались было протиснуться через иллюминаторы, люди говорили: они так орали, что их пришлось расстреливать с баркасов. Доказать насчет нас (и насчет тех ребят) оказалось невозможно. Да, мы и не то еще делали. И у нас был свой талисман. Мы называли его Иисус. Иисус помогал от огня…
На школьном дворе я сказал Шербауму:
— Публичные сожжения не отпугивают, они пробуждают похоть.
Он стоял, склонив голову набок.
— Когда сжигают людей, это, возможно, так и есть. Но, ручаюсь, западные берлинцы не выдержат вида горящей собаки.
Я дольше собирался с мыслями, чем он.
(Веро Леванд зигзагами вела свой велосипед по школьному Двору.)
— Вы, значит, решили? — (Она со своим велосипедом втиснулась между нами.) — Представляете, какой вой поднимут газеты, к примеру «Моргенпост».
— Ну и что? — Это сказала Веро.
— Все давно известно. — Это сказал Шербаум.
— Люди скажут: он трус. Пусть бы лучше сжег себя, если хотел предостеречь от напалма.
— Раньше вы уверяли, что сожжение людей пробуждает похоть.
— И продолжаю стоять на этом. Давайте вспомним давнее прошлое. Жестокие бои гладиаторов. Сенека сказал…
(Веро прервала меня, повторив: «Ну и что?»)
Шербаум заговорил тихо, но убежденно:
— Горящая собака их проймет. Ничто другое их не проймет. Они могут читать все подряд, рассматривать иллюстрации с лупой или придвигаться вплотную к телеку, бормоча: «Плохоплохо». Но когда они увидят, как горит мой пес, то пирожные вывалятся у них из пасти.
Веро Леванд предостерегла его:
— Внимание, Флип. Теперь он начнет тебе заливать насчет объективности…
В ответ я стал рыться, так сказать, в анналах истории:
— Послушайте меня, Шербаум. Во время войны — я имею в виду последнюю войну — в моем родном городе саботажники подожгли плавучую базу для подлодок. Команда — сплошь фенрихи и кадеты — попыталась было покинуть судно через иллюминаторы, но люди застряли, протиснувшись только наполовину… Огонь охватил их снизу… Вы представляете себе? Или, например, Гамбург; там бросали зажигалки, и загорались целые улицы, горел асфальт. Люди выбегали из горящих домов и попадали прямо в огонь. Вода не помогала. Горящих людей закапывали в песок, чтобы прекратить доступ воздуха. Но как только воздух опять проникал, они снова начинали гореть. Теперь это никто не может себе представить. Вы меня понимаете?
— Точно. И именно потому, что это никто не может себе представить, я должен облить бензином своего Макса на Курфюрстендамме и поджечь, и притом в часы пик.
Мы по-прежнему связывались по телефону.
— Неужели я должен сообщить властям о Шербауме?
Зубной врач посоветовал не делать этого.
— Да я и не смог бы, при всем желании. Неужели я, именно я, буду сообщать? Да я скорее…
Он перемежал зубоврачебные рекомендации ироническими замечаниями, как бы в скобках.
— Давайте учиться у католиков, будем больше слушать.
После моего урока Шербаум сразу покинул класс. Я склонился над классным журналом. Из учительской был виден школьный двор. Ребята стояли кучками, Шербаум подходил то к одной, то к другой — раньше он избегал этого. Немного погодя он отошел в сторону с Веро Леванд к крытой велосипедной стоянке. Она что-то говорила, он молчал, склонив голову набок.
Мне хотелось завести разговор с Ирмгард Зайферт.
— Знаете, — сказала она, — иногда я надеюсь, что произойдет нечто такое, что разрядит атмосферу. Но ничего не происходит.
Зайферт оставила лютеранскую церковь — она совершила это в ту пору, когда у нас началось перевооружение, стало быть, более двенадцати лет назад, по ее словам, это был спонтанный ответ на согласие ее церкви с созданием бундесвера, — после этого гневного отречения она еще чаще стала мечтать об очистительной грозе. («Сегодня, уже сегодня должно что-нибудь произойти!») Она слепо верила в своих семнадцати-восемнадцатилетних учеников, возлагала на них все надежды.
Читать дальше