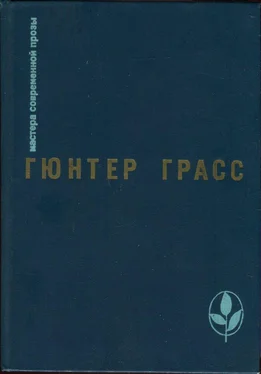За семейным ужином мы вели себя чересчур тихо — всех стеснял литературный язык Линды, да и я весьма нерешительно переходил временами на диалект данцигского предместья, поэтому мой дядя Клеменс, от которого через родню с материнской стороны я унаследовал оптимизм и педагогическую жилку, сказал: «Знаешь, вспоминать о грустном — толку нет. Давайте споем, да так, чтобы чашки в шкафу звенели».
И мы запели всей семьей: тетя Хедвиг, ее дочка Зельма, двоюродная сестра моей матери, ее чахоточный и потому неработоспособный муж по имени Сигизмунд, дядюшка Клеменс и его Ленхен, а также их взрослый внук, мой троюродный брат Альфонс, у него на заду вскочил фурункул, из-за этого он не соглашался сесть за пианино, но ему не удалось отвертеться: «Давай, парнишка. Перестань ломаться. Вдарь по клавишам». Нас с Линдой усадили по-семейному в серединку — будто мы уже муж и жена, а не жених с невестой, — и все мы запели хором в сопровождении дядиного аккордеона и пианино Альфонса, опустившего на круглую табуретку лишь половинку своего зада, — мы пели часа два, главным образом песню «Лес шумит, лес шумит, сердце бедное стучит». При этом мы пили картофельный самогон, который забивал мятный ликер.
(В каждом глотке этого национального напитка кашубов с переменным успехом брал верх то вкус химического экстракта, на котором настаивали ликер, то шибавший в нос сивушный дух, словно ты заглянул в картофелехранилище. Иногда тебе казалось, будто ты смакуешь переслащенный ликер, но тут его вкус заглушал плохо очищенный самогон, а когда твое нёбо привыкало к деревенской сивухе, мятный экстракт напоминал о достижениях современной химии. Впрочем, все эти вкусовые противоречия объединяла и примиряла песня «Лес шумит, лес шумит».)
Доливая стаканы, тетя вдруг спросила: «Как ты думаешь, парнишка, фюрер еще жив?»
(Такой прямой заход в историю считается у нас неприличным, ведь мы стараемся оценивать исторический материал с холодной объективностью, и мои ученики, когда я не так давно по легкомыслию процитировал тетушку Хедвиг, очень низко оценили ее политическую сознательность; если их послушать, то мне следовало ответить тете цитатой из Гегеля.)
«Конечно же нет, тетя», — сказал я, потупив глаза. И моя невеста, которую держали под руки Ленхен, жена дяди Клеменса, и чахоточный железнодорожник Сигизмунд — распевая «Лес шумит, лес шумит», мы качались в такт музыке, — моя невеста Линда одобрительно кивнула: мы с Линдой были одного мнения.
«Вот видишь, — тетушка ударила кулаком по столу, — он бы говорил и говорил… а теперь его нет. Правда?»
(Перед этим логическим умозаключением не устоял и сам Шербаум: «Ну и дает ваша тетушка!»)
И мы — моя родня и Линда — спели еще раз с начала до конца «Лес шумит, лес шумит, сердце бедное стучит…».
Напоследок пришел домашний врач — его позвала двоюродная сестра моей мамы Зельма, — он должен был разборчивым почерком написать список лекарств, необходимых моей родне. Сердечные гомеопатические капли для тетушки. Что-нибудь для легких железнодорожника Сигизмунда. Лекарство от дрожания конечностей для дяди Клеменса. (Хотя конечности у него вовсе не дрожали, пока он играл на аккордеоне.) И для всех, кроме железнодорожника, какое-нибудь средство от ожирения.
Врач, приставив руку ко рту, тихо сказал: «Они просят лекарств только потому, что лекарства западногерманские. Пользы никакой. Пусть поменьше жрут и почаще поют «Лес шумит». Вам бы следовало приехать сюда в ноябре, когда начинают резать гусей…»
Моя тетушка подхватила последние слова врача: «Да, паренек, приезжай-ка еще раз поскорей со своей невестой из благородных. На святого Мартина у нас такая обжираловка — лопнуть можно. Наши кашубские гуси. Сегодня ты видел их на лужку. Ты еще помнишь, как их начиняют?»
И тут я перечислил все то, чему меня когда-то учил Брюзам — бывший шеф-повар в отеле, а ныне повар, ведущий программу на телевидении, — учил в лагере для военнопленных в Бад-Айблинге: «Существуют следующие начинки: яблочная, замечательная начинка из каштанов и еще так называемая мясная начинка. Но каждая начинка требует эстрагона; гусь без эстрагона и не гусь вовсе».
Тетушка Хедвиг обрадовалась: «Эстрагон — это правильно. Но мы фаршируем гусей картошкой, сырой картошкой, чтобы она пропиталась жиром. Язык проглотишь. Приезжай с невестой к рождеству…»
Но Линда не хотела больше приезжать. От курятины из стеклянных банок у нее пошли прыщи, началась отрыжка, изжога и рези в животе. (Я уж подумал было, не хочет ли она отдать концы. Мысль эта не кажется мне странной.) Только в Западном Берлине ей стало лучше. Но все равно скоро мы расстались. Уже весной пятьдесят шестого она дала мне отступное: «Хочешь в рассрочку или все деньги сразу?»
Читать дальше