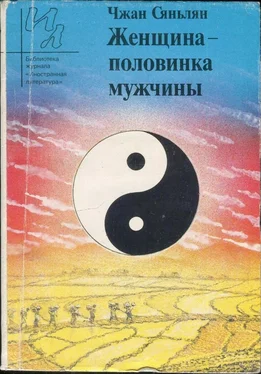Мы стояли неподвижно на вершине небольшого холма, без обычных шуток и смеха, молча глядя на приближающуюся колонну. Лишь теперь при виде их мы смогли заново почувствовать собственную многолетнюю глухую тоску. Разве это не мы только что выскочили из дома с криком «лагерь идет!»? Мы. Но мы все же не были вольными крестьянами, прибежавшими поглядеть на зеков. Крестьяне жили в другом мире, а мы смотрели как бы на самих себя. Колонна людей в черной форме обладала и еще одним свойством — она притягивала и поглощала тебя, ты растворялся в ее недрах, переставал существовать.
Требовалось значительное усилие, чтобы не поддаться, остаться самим собой.
— Стой! Раз-два! Вольно!
Кто-то из наших бросил вниз на дамбу зажженную папиросу. Конвоиры подняли головы, посмотрели на нас, но ничего не сказали. Кто-то из колонны тут же поднял папиросу, несколько раз глубоко затянулся и передал соседу. Деньги водились теперь у всех, но купить что-либо расконвоированным было гораздо легче.
Чуть погодя вниз на дамбу полетели куски недоеденного ужина, огурцы, хурма. Между нашей бригадой и прибывшими началась веселая игра: мы бросали, они ловили. В тающей утренней дымке разнеслись смех и крики. Хочу, кстати, разуверить тех, кто думает, что заключенные в лагере с утра до вечера предаются унынию. Вовсе нет. Ведь иначе не выдержишь — особенно если срок большой. А причины для веселья мы всегда находили вокруг себя.
Строй смешался. Конвоиры закричали на разошедшихся, смеющихся работяг:
— А ну-ка, быстро! Подтянись!
Может быть, они действительно думали, что все эти вверенные им люди — преступники. «Они ощущают себя братьями по оружию, — подумал я, глядя на конвой, — но кого же они считают своим врагом? Наверное, сами толком не знают. И никто им точно не скажет. Зато в их головы прочно вбито, что любой заключенный — классовый враг».
Колонна почти прошла. Последние ряды еще шагали по дамбе, а первые уже вышли на поле — к тому участку, который приготовил для них начальник. Ребята из моей бригады все еще стояли с огурцами в руках и улыбались. Непостижимое существо человек: ему бы плакать, а он смеется. В этом его слабость, но, быть может, и сила. Вдруг кто-то рядом со мной радостно сказал, указывая на север:
— Еще кто-то идет!
Парень, которого посадили за сдохших коров, вытянул шею, а потом изумленно хмыкнул:
— Да ведь это женщины!
Да, это подходил женский лагерь.
Но издали почти невозможно было определить, что это женщины. На всех была та же черная форма, волосы у всех были коротко острижены. До шестьдесят шестого года женщин еще не стригли, и в свой первый срок я сразу узнавал их по косам. Но после, в кампанию «ломки четырех старых» [3] «Старая идеология, старая культура, старые нравы и старые обычаи».
, стали стричь наголо всех, включая детей и женщин. На соседнем овощном поле работала до недавнего времени одна расконвоированная — старуха, которую все считали колдуньей. Ей было за шестьдесят, она то и дело принималась танцевать какой-то дикий шаманский танец. На голове у нее после стрижки остались лишь редкие белые волоски. Когда ее осудили и дали семь лет, она не протестовала, а даже сказала:
— Как выйду, помолюсь за нашего Председателя Мао!
Но когда ее силком начали стричь, она вдруг заплакала, завыла и закричала:
— Зло! Зло творите! Добралась революция до моих волос, да как бы они ей не аукнулись!..
С тех пор она все время пела — какую-то удивительную песню, которой никто не мог понять. Еще через месяц она умерла. Хоронили ее впятером: я, как бригадир, и еще четверо зеков. В тот день мы вслед за мрачным начальником Ваном вошли в женский барак. Мы подняли и понесли гроб, за которым шли плачущие женщины, но несли, видно, не очень осторожно, в дверях замешкались, и листок бумаги, закрывавший ее лицо, слетел и упал на пол. Я увидел глубоко запавшие глаза — безжизненные, но все еще с каким-то вызовом глядевшие в небо. Я протянул руку и указательным и средним пальцами попытался закрыть эти глаза. Никак не думал, что кожа высохшей, похожей на корявую деревяшку колдуньи сохранила упругость. Я снова пытался закрыть ей глаза, но они снова медленно открывались, и мне казалось, я слышу:
— Что ты делаешь? Зачем закрываешь мне глаза? Я хочу, чтобы они были открыты! Широко открыты!..
Мне стало не по себе: рядом с покойницей стояла неумолимая смерть — вечная, никем еще не понятая тайна, разжигающая любопытство. Я не осмеливался даже взглянуть на плакальщиц, осмотреть женский барак, хотя это был уникальный случай, такого, наверное, больше не представится. Когда у колдуньи сами собой опять открылись глаза, я услыхал испуганный крик и сдавленные женские всхлипывания. И был еще какой-то резкий звон — наверное, одна из женщин уронила миску.
Читать дальше