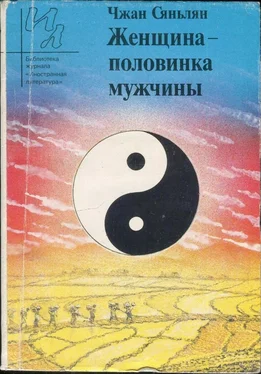Мы поставили гроб и уложили колдунью. Глаза ее так и остались открытыми. Колдунью хоронили в «хрустящей коже» — гробу, сделанном из веток и коры тополя. «Хрустящая кожа» — чисто лагерное выражение, и то, что оно обозначало, сильно отличалось от «тесовой домовины», которую так любят описывать писатели. Впрочем, колдунье даже повезло: в шестидесятом для умершего заключенного не полагалось и «хрустящей кожи», только камышовая циновка. В тот год и меня чуть не завернули в такую.
В лагере мужчины и женщины разъединены. Причем разъединены так хорошо, что мы даже как будто забываем, что где-то рядом существуют реальные женщины. Хотя на самом деле хозяйство у нас единое, труд одинаковый, и даже дороги, по которым мы ходили, одни и те же. То есть на самом деле женщины были совсем рядом, но мы этого не чувствовали. Только некоторые уголовники помоложе, обладавшие чутьем настоящих ищеек, могли неведомым способом установить, где женщины сегодня работают, по какой они шли дороге и даже что происходит у них в лагере. Оброненная на дороге резинка, которую эти женщины носили на запястье вместо традиционного серебряного браслета и которая была единственным украшением заключенной, тут же становилась символом. Жалкое украшение будило фантазию зека, давало сюжет для целой истории. Или небольшого размера казенные башмаки. Они оставляли невероятно маленькие, словно от детских ног, следы. Еле видные на глине отпечатки, крошки хлеба, картофельная шелуха в траве (женщины и в лагере едят меньше мужчин) — все это сплеталось, словно незаметные тропинки в саду меж деревьев, и соединяло двоих заключенных — мужчину и женщину. Конечно, подлинное соединение было возможно только в мечтах или снах. Мечтам невозможно было стать реальностью, если только оба не были расконвоированы.
После вечерней переклички, когда все собирались в бараке, но никто еще не спал, сидящие у печки старые зеки рассказывали молодым множество тюремных преданий, часто очень поэтичных. Лагерная история держалась на устной традиции, и хранили ее старые заключенные, давно тянувшие лямку. Если верить им, женщины всегда тяжелее переносили заключение, чем мужчины. Их слабые души не могли вынести неволю, им особенно требовалась любовь, опора и поддержка. Некоторые из них могли, например, крикнуть в окно охраннику:
— Начальничек, неужто твой мышонок не хочет попить? Правда, хочет?
Кричали они просто так, наудачу — ведь случай не свалится с неба, его нужно искать. Страсть заставляла их не замечать железных, в палец толщиной прутьев на окне. Случалось, какая-нибудь женщина неожиданно бросалась прямо в объятия расконвоированного…
И вот теперь женщины приближались к нам.
Туман совсем рассеялся. Солнечные золотые лучи коснулись верхнего края дамбы. Следы бесчисленных ног, отпечатавшиеся в пыли, были похожи на странный узор. Недавний туман предвещал безветрие. Свисающие ветви ив были неподвижны, словно спали. И камыши, и трава по краю канала замерли, глядя в небо, как будто идущие женщины не стоили того, чтобы обращать на них внимание. Женщины легко и проворно шагали по дамбе и наконец приблизились к нам. Уже их походка показалась нам страшно вызывающей и поглотила все наше внимание. И действительно — они шли, с одной стороны, легко и непринужденно, но можно было заметить какое-то нарочито выставленное напоказ смущение. Все они были как на подбор молоденькие.
Но если бы не походка, если бы они вдруг замерли, как камыш или трава, кто мог бы поверить, что это женщины?! Во что была одета Маслова, шедшая по Владимирскому тракту в Сибирь? Кажется, на ней была юбка. Не помню точно — белая или серая. Но юбка, и на голове — косынка. А на этих женщинах была точно такая же черная форма, как и на нас. Тюремная куртка и штаны — два бесформенных мешка — уничтожали все признаки женственности. По дамбе шагали безликие существа. Кто они? Женщины? «Женщина» — всего лишь ничего не значащее название, которое приклеилось к этим существам и до сих пор каким-то чудом держалось. Ни талии, ни груди, ни бедер. На их лицах не было глубоких «исправительных морщин», зато проступали черты странной грубости, даже дикости — дикости самок. Они стали бесполыми, не похожими ни на мужчин, ни на женщин существами, более отталкивающими, чем зеки-мужчины.
Многие из них на ходу лузгали незрелые еще семечки и косились на нас. Взгляд их был безжизненным, как у рыб, и в то же время в нем сквозила какая-то надменность, словно им море по колено. Похоже, они таким образом заигрывали с нами. Прилипшая у рта белая шелуха казалась издали каплями слюны. Меня вдруг затошнило. Я опустил голову, не хотелось больше смотреть на них. Они могли изменить все мое отношение к женщине, опошлить мою тоску по ней, исковеркать мои самые светлые надежды. Если только представить, что та женщина, которую я любил в своих мечтах, которой наслаждался, может оказаться среди них, принять их облик, — при одной такой мысли жизнь теряла для меня свою ценность.
Читать дальше