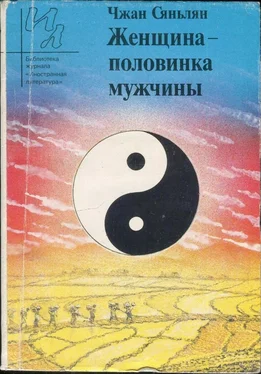Наверху ясное, чистое небо, внизу — темно-зеленая земля. Прозрачность, глубина, изящество. Но между ними — утомительная для глаза возня черных фигурок.
Неожиданно над залитым водой полем послышались радостные возгласы. На дамбе главного канала показалась повозка с едой.
Четыре упряжки тащили громадные плетеные кузова с пайками, сзади ослик тянул большой бак с водой. Весь караван двигался в тени под ивами. Черт побери! Невозможно смотреть, как медленно, словно нарочно не спеша, они едут! Какие там овощи? Похоже на запах пареной капусты и редьки. И самое главное — хлебец, который полагается к обеду. Но как же нелегко все это съесть! Все не так просто — взял и съел.
Начальник Ван дунул в свисток. Зеки, будто сорванные взрывом, метнулись, понеслись к остановившимся у канала повозкам.
Бежать, бежать как можно быстрее! Первым достаются хлебцы побольше, последним — те, что на дне корзины, совсем расплющенные.
Еда. Для зека поглощение пищи — это молитва, то, чему нужно внимать всем сердцем, всеми помыслами.
Если кто-то потревожит заключенного во время еды, он рискует увидеть волка, только что схватившего зайца: оскаленные зубы, в груди клокочет ярость, налитые кровью глаза косятся на осмелившегося нарушить трапезу. Начальник все это прекрасно понимал и потому, несмотря на обилие крепких выражений, никогда не торопил нас за обедом. Он частенько повторял: «Жующего человека и бомбой от еды не оторвешь». Если с дообеденной нормой все обстояло хорошо, он даже давал нам отдохнуть после обеда…
Сегодня прополка с утра все время набирала темп. Заключенные зиму провели в бараке, весну проработали на засушливых, неполивных полях, и всех их при виде воды и зеленого раздолья охватило какое-то радостное возбуждение. Короче, начальник Ван был доволен и после обеда разрешил прилечь — прямо здесь же, на дамбе. Тени нигде не было, и мы жарились на солнце и, наверное, напоминали хрустящее печенье под названием «хворост». Однако лежать всегда лучше, чем работать. Только начальник Ван сидел в тени единственного небольшого деревца и ковырял травинкой в зубах. Он удовлетворенно посматривал на разлегшихся зеков, как пастух, стерегущий своих овец.
Мы, то есть те, кто отвечал за это поле, должны были улучить момент и, пока все обедают, осмотреть поле и межи. Заключенные и свой-то труд не ценили, тем более чей-то чужой. Кто по небрежности, а кто и нарочно мог открыть затвор, чтобы спустить с поля воду, или вытоптать межу. Тогда или вода уйдет с аккуратно залитого благодаря нашим стараниям поля, или из канала, размыв межу, хлынет лишняя вода. Разбирайтесь на здоровье! У вас времени хватает!
Те, кто пришел сюда из лагеря, считали, что поле заросло сорняками по нашей вине.
Доходяги, не выполняющие норму прополки, валили все на нас: сорняки и рис так смешались, так переплелись — не иначе здесь позволили гулять скоту…
Поле по берегам двух прямых оросительных канав было разделено на четыре примерно одинаковых участка — каждая канава должна была снабжать водой более ста му. Канавы под прямым углом соединялись с главным каналом, у которого было девяносто таких ответвлений. Рисовое поле одной стороной прилегало к оросительной канаве, а другой — к глубокой дрене. Дрена проходила по ложбине, и потому в ней круглый год стояла вода. Зимой эта вода покрывалась льдом. Оба берега дрены заросли высоченным камышом — это были остатки роскошных зарослей прежнего болота. Весной первыми прорастали эти камыши — прямые и острые, как стрелы. Они стремительно тянулись вверх, питаясь никогда не иссякающей в дрене влагой. Когда высаживался рис и поле заливалось водой, эти камыши были уже в рост человека. А сейчас дрены и видно не было за глухой зеленой стеной, которую не мог поколебать даже ветер.
Я слышал, как по ту сторону стены камыша смеялись и галдели женщины: они пололи соседний участок. Женщины не обедали вместе с нами, их дежурные принесли им еду прямо в поле.
Тем соседним участком ведал заключенный, которому было за пятьдесят, — самый старый в нашей бригаде. Начальник Ван знал, кого куда поставить. К тому же у этого зека его восьмилетний срок заканчивался в этом году, и от него ждать скандальной истории из-за женских прелестей не приходилось.
Одна из женщин за зеленой стеной пыталась петь грубым низким голосом:
На дорогу выпила чарочку вина,
Никого храбрее нет теперь меня…
Голос прозвучал сипло, неприятно, словно сквозь зеленую преграду просочилось облако грязного тумана и, колеблясь, уплыло прочь. На очередном хрипе голос умолк. И тут я услышал за безмолвно застывшими камышами новые громкие звуки — там брызгались, плескались, шлепали по воде. Очень было похоже на то, как бьют по воде крыльями дикие утки.
Читать дальше