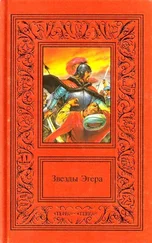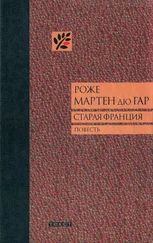- Вы жестоки, Женни!
Она посмотрела на улыбавшегося Антуана и, подождав, пока улыбка не исчезнет с его лица, решительно заявила:
- Я боюсь за мальчика!
- За Жан-Поля?
- Да! Жак открыл мне глаза на многое. Я задыхаюсь теперь в этой среде... которая стала мне чуждой! И не могу примириться с мыслью, что именно в этой атмосфере должен расти Жан-Поль.
Антуан даже выпрямился, будто не совсем понял слова Женни.
- Я говорю вам все это потому, что доверяю вам... - добавила Женни. Потому, что мне со временем понадобятся ваши советы... Я глубоко привязана к маме. Восхищаюсь ее мужеством, благородством, всей ее жизнью. И никогда не забуду, как она была добра по отношению ко мне. Но что поделаешь? Мы не сходимся ни в чем! Буквально ни в чем! Конечно, я уже не та, что была в четырнадцатом году. Но и мама тоже очень переменилась. Вот уже четыре года, как она руководит госпиталем; четыре года она что-то устраивает, что-то решает, четыре года без конца распоряжается, требует к себе уважения, повиновения. Она полюбила власть... Она... Короче, она стала совсем другая, уверяю вас!
Антуан сделал уклончивый жест человека, не слишком убежденного словами собеседника.
- Прежде мама была само всепрощение, - продолжала Женни. - И хотя она всегда была по-настоящему верующая, она никогда не пыталась навязывать другим своих убеждений! А теперь!.. Если бы вы слышали, как она наставляет своих больных!.. И, конечно, самые послушные и смиренные остаются на излечении дольше прочих...
- Вы жестоки, - повторил Антуан. - Во всяком случае, несправедливы.
- Может быть... Да... Может быть, напрасно я рассказываю вам все это. Не знаю, как бы объяснить так, чтобы вы меня поняли... Ну, например, мама говорит; "наши солдатики"... Говорит; "боши"...
- Но мы тоже говорим.
- Нет. Совсем по-другому... Мама оправдывает все преступления этих четырех лет, лишь бы прикрывались именем патриотизма! Мама их одобряет! Мама убеждена, что дело союзников - единственное правое, единственное справедливое дело! И что война должна длиться до тех пор, пока Германия не будет стерта с лица земли! Кто не согласен с ней - тот, значит, плохой француз... А те, кто доискивается истинных причин бедствия и кто возлагает всю ответственность за него на капитализм, те в ее глазах...
Антуан слушал с удивлением. То, что открылось ему в этих признаниях, настроение Женни, ее взгляды, эта переоценка ценностей - словом, перемены, совершившиеся под посмертным влиянием Жака, - заинтересовало Антуана куда больше, чем изменения в характере г-жи де Фонтанен. Он чуть было не сказал ей в тон: "Я тоже боюсь за мальчика". Ибо он с тревогой спрашивал себя, не создаст ли происшедший в Женни переворот (который, впрочем, по его мнению, не мог не быть несколько искусственным, несколько поверхностным) опасной атмосферы вокруг Жан-Поля; во всяком случае, более опасной для развития маленького существа, чем праздность дяди Дана или близорукий шовинизм бабушки.
Они вышли на залитую солнцем полянку, откуда была видна калитка виллы Тибо. Рассеянным взглядом озирал Антуан знакомые места, и ему казалось, будто он видел их в отдаленном прошлом, в какой-то прежней своей жизни.
Однако все оставалось неизменным, таким же, как было: широкая аллея с высокими обочинами и, в перспективе, величественная громада виллы; небольшая площадка перед домом, с круглым фонтаном, который пускали только по воскресеньям; цветочные клумбы, живые изгороди, белые перила, и дальше, под низко нависшими ветвями старых деревьев отцовского сада, калиточка, где Жиз, тогда еще девочка, поджидала его возвращения. Казалось, война здесь ничего не коснулась...
Женни остановилась.
- Мама целых три года ежедневно соприкасается со страданиями, порождаемыми войной... И, знаете, ее как будто уже ничто не способно тронуть, до того она очерствела, занимаясь этим возмутительным ремеслом.
- Возмутительным?
- Да, - сурово подтвердила Женни. - Ее ремесло заключается в том, чтобы лечить и ставить на ноги молодых людей с единственной целью - снова послать их на убой! Совсем так, как зашивают распоротое брюхо лошади пикадора, чтобы снова вывести ее на арену! - Она нагнула голову, но вдруг, как будто спохватившись, смущенно повернулась к Антуану: - Я вас шокирую?
- Нет!
Это "нет" сорвалось с губ так непроизвольно, что Антуан сам удивился; удивился тому, что сейчас ему бесконечно более чужд патриотизм таких, как г-жа де Фонтанен, чем негодование и суровые обличения таких, как Женни. И, вспомнив о Жаке, он повторил в тысячный раз: "Насколько ближе он был бы мне сейчас, чем прежде!"
Читать дальше