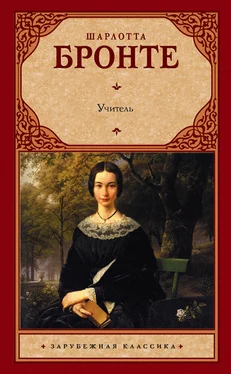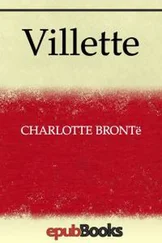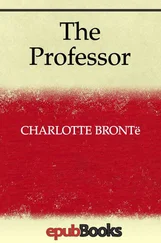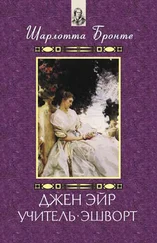Но тот, кто живет размеренно и мыслит рационально, никогда не отчаивается. Лишившись имущества – а это и впрямь удар! – он разве что пошатнется, а потом, побуждаемый несчастьем, нацелит все усилия на работу, чтобы поправить положение, и деятельность вскоре умерит сожаления. Пораженный болезнью, он призывает на помощь терпение и сносит то, от чего нельзя исцелиться. Пронзенный острой болью, не дающей покоя мечущимся конечностям, он полагается на якорь Надежды. Если смерть отнимает у него то, что он любит, с корнем вырывает и расщепляет ствол, обвитый его чувствами, – это мрачное, гнетущее время щемящей тоски! Но однажды утром вместе с солнцем в его печальное жилище заглянет Вера и скажет, что в другом мире, в другой жизни он вновь встретит свою родственную душу. Вера объяснит ему, что тот, другой мир не запятнан грехом, а жизнь не отягощают страдания; свои утешения она будет усердно подкреплять связью с двумя идеями, непостижимыми для смертных, но доступными, чтобы полагаться на них, – Вечностью и Бессмертием; и перед мысленным взором скорбящего встанет неясная, но дивная картина небесного царства света и покоя, души, пребывающей там в блаженстве, дня, когда и душа самого скорбящего вознесется туда, избавившись от бренной оболочки, для воссоединения, полного любви и не омраченного страхом, – и он соберется с духом, вспомнит о потребностях, станет исполнять обязанности, и даже если бремя печали навсегда останется с ним, благодаря Надежде он вынесет это бремя.
Так чем же вызваны эти рассуждения? Какой вывод из них следует? Они вызваны тем, что мою лучшую ученицу, мое сокровище, отняли у меня, сделали недосягаемой, а вывод таков: будучи уравновешенным и рассудительным человеком, я не позволил недовольству, разочарованию и печали, вызванных во мне этим злополучным обстоятельством, достигнуть чудовищных размеров, не отдал им все мое сердце – наоборот, запер их в его единственной, тесной и тайной, нише. Днем, когда мне предстояло выполнять свои обязанности, я вводил для своих чувств режим молчания [90], и только заперев на ночь дверь своей комнаты, я слегка смягчался по отношению к этим унылым питомцам и позволял им роптать, и тогда в отместку они садились ко мне на подушку, витали над кроватью, не давали уснуть бесконечными причитаниями.
Прошла неделя. С мадемуазель Ретер я больше не беседовал. В ее присутствии я держался спокойно, но оставался жестким и холодным, как камень. Когда мне случалось смотреть на нее, я отдавал предпочтение взгляду, какого достоин тот, кто держит в советчиках зависть, а коварством пользуется как орудием, – взгляду, полному безмолвного презрения и глубокого недоверия. В субботу вечером, прежде чем покинуть пансион, я зашел в столовую, где мадемуазель Ретер сидела в одиночестве, остановился перед ней и попросил преспокойно, словно и не помнил о недавнем разговоре:
– Мадемуазель, будьте любезны дать мне адрес Френсис Эванс Анри.
Слегка удивившись, но не растерявшись, она улыбкой опровергла все подозрения, что адрес ей известен, и добавила:
– Вы, вероятно, забыли, что я уже все объяснила неделю назад.
– Мадемуазель, – ответил я, – буду весьма признателен, если вы укажете, где живет названная особа.
Эти слова ее озадачили, а потом, блистательно изображая наивность, она спросила:
– Неужели вы считаете, что я говорю неправду?
По-прежнему уклоняясь от прямых ответов, я уточнил:
– Стало быть, мадемуазель, вы не намерены выполнять мою просьбу?
– Но как же я могу сказать вам то, чего не знаю, месье?
– Отлично; я прекрасно понял вас, мадемуазель, поэтому добавлю еще несколько слов. Идет последняя неделя июля, в следующем месяце начинаются каникулы; будьте добры воспользоваться этим досугом, чтобы подыскать другого учителя английского: в конце августа я буду вынужден отказаться от должности, которую занимаю в вашем заведении.
Ждать ответа я не стал, откланялся и сразу вышел.
Тем же вечером, вскоре после ужина, служанка принесла мне пакет, надписанный знакомым почерком, увидеть который так скоро я уже не надеялся. Поскольку дело происходило в моей комнате, где я был один, ничто не помешало мне сразу же вскрыть пакет и вынуть оттуда четыре пятифранковые купюры и записку на английском:
«Месье, вчера я приходила к мадемуазель Ретер в то время, когда, насколько мне известно, у Вас заканчивался урок, и попросила разрешения пройти в класс и поговорить с Вами. Мадемуазель Ретер сама вышла ко мне и сообщила, что Вы уже ушли; поскольку еще не пробило четырех, я догадалась, что она ошиблась, и поняла, что мой приход на следующий день с той же просьбой также будет напрасным. Отчасти его заменит письмо, к которому приложены 20 франков – плата за полученные от Вас уроки, и если это недостаточное выражение моей благодарности, если мне не удастся передать в письме, как мне хочется Вас поблагодарить и как я жалею о том, что, вероятно, больше никогда Вас не увижу, – что ж, едва ли произнесенные вслух слова лучше справились бы с этой задачей. При встрече с Вами я, наверное, начала бы мямлить и запинаться, скорее выставляя свои чувства в ложном свете, нежели объясняя их, поэтому, пожалуй, даже к лучшему, что меня не пустили к Вам в класс.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу