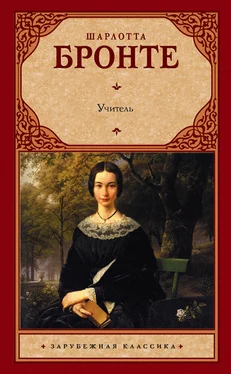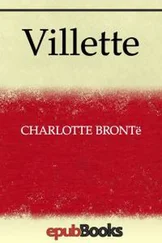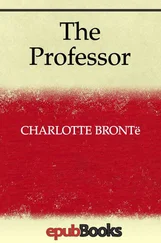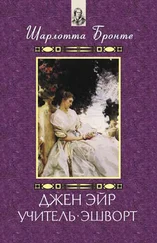Френсис сидела неподвижно, поставив локоть на колено и подпирая голову ладонью. Я уже знал, что она, задумавшись, может подолгу не менять позу; наконец выкатилась слеза. Френсис смотрела на имя, выбитое на надгробии, и у нее, несомненно, щемило сердце, как у всякого, кто скорбит об умершем близком. Слезы катились ручьем, она то и дело утирала их платком, сдерживая всхлипы, а потом, когда пароксизм миновал, затихла, как прежде. Я осторожно положил руку ей на плечо: предупреждать как-то иначе ее, не склонную к истерике или обморокам, было незачем; неожиданное похлопывание по плечу, возможно, напугало бы ее, а мое тихое прикосновение только привлекло внимание, как я и хотел. Она обернулась быстро, но мысль так стремительна, в некоторых головах особенно, что – да, я верю в это чудо – понимание, кто именно незамеченным нарушил ее уединение, пронеслось в ее голове, вспыхнуло в сердце еще до того, как завершилось ее порывистое движение; во всяком случае, как только удивление открыло ей глаза и перевело их взгляд на меня, так тотчас узнавание сообщило их радужкам недвусмысленный блеск. Как только беспокойное удивление исказило ее черты, так сразу же сквозь него проступила ликующая радость, тепло и ясно озарившая лицо. Едва я успел заметить, что она осунулась и побледнела, меня захлестнуло ответное внутреннее удовольствие при виде несомненного и неописуемого торжества, о котором говорили разлившиеся вдруг по ее лицу румянец и живое сияние. Это был свет летнего солнца после проливного дождя, а что согревает быстрее его лучей, пылающих почти так же ярко, как костер?
Мне ненавистна дерзость, которой свойственны вульгарность и бесчувственность, но по душе отвага сильных духом, горячность благородной крови; я воспылал страстью к свету в чистых карих глазах Френсис Эванс, когда она без опаски заглянула прямо в мои глаза, к ее голосу, когда она выговорила:
– Mon maître! Mon maître! [93]
Мне понравилось и движение, которым она вложила свою руку в мою, и то, как она встала передо мной, нищая сирота – невзрачная для сластолюбца, сокровище для меня, самая близкая мне душа на свете, думающая то же, что и я, чувствующая так, как я; мой идеал вместилища нерастраченных мной запасов любви, олицетворение благоразумия и предусмотрительности, усердия и упорства, самопожертвования и самообладания – этих стражей, этих верных хранителей дара, который мне не терпелось вручить ей, – дара своей симпатии; образец верности и чести, независимости и порядочности – всего, что делает честную жизнь чище и поддерживает ее; безмолвная обладательница кладезя нежности и страсти, тихих и жарких, чистых и неутолимых, естественных чувств и естественных увлечений, этих источников свежести и комфорта для святилища, каковым является дом. Я знал, как неслышен и глубок этот кладезь в ее сердце; знал, что под присмотром рассудка горит и более опасное пламя; я видел, как мгновенно оно взметнулось высоко и живо, когда беспокойное течение жизни нарушилось; видел, как рассудок укротил бунтаря, погасил его вспышку, превратив в тлеющие угли. Я был уверен во Френсис Эванс, я уважал ее, и когда я взял ее за руку и повел прочь с кладбища, то уловил в себе и другое чувство, столь же сильное, как уверенность, прочное, как уважение, более пылкое, чем то и другое, – любовь.
– Ну, – заговорил я, когда за нашими спинами зловеще скрипнули ворота, – вот я и нашел вас, моя ученица: месяц – срок немалый, и мне бы в голову не пришло, что я найду свою заблудившуюся овцу [94]среди могил.
Прежде я всегда обращался к ней «мадемуазель», и мои нынешние слова знаменовали новый тон и для нее, и для меня. Судя по ответу, подобное обращение ничем не задело ее чувств и не вызвало разлада в ее сердце:
– Mon maître, вы взяли на себя труд разыскивать меня? Я и представить себе не могла, что вас озаботит мое отсутствие, хоть и горевала о разлуке. Признаться, мне совестно: в минуты более тяжкого горя следовало бы забыть обо всем остальном.
– Ваша тетя умерла?
– Да, две недели назад, и умерла, исполненная сожалений, от которых мне никак не удавалось отвлечь ее; в последнюю ночь она все повторяла: «Френсис, без меня тебе будет так одиноко, ведь у тебя совсем нет друзей». Еще она хотела, чтобы ее похоронили в Швейцарии, а ведь это я уговорила ее на старости лет покинуть берега Женевского озера и поселиться на равнинах Фландрии – как будто для того, чтобы умереть. Я охотно исполнила бы ее последнюю волю и увезла ее останки в нашу страну, но это было невозможно; мне пришлось похоронить ее здесь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу