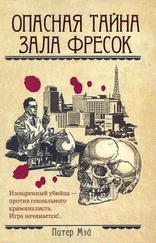— Эх, зря ты на спор пошел, — вздыхает Иорданов, — считай — проиграл. Командировка-то сегодня кончается? Так?
— В принципе сегодня, — вздохнув, произносит Смирницкий.
Возвратился Баранчук. Видно, что он продрог, вывалян весь в снегу, на руках и на лице — грязные следы масла.
— Ты откуда такой, Эдуард? — интересуется Иорданов. — Вроде бы смена не твоя.
Эдуард тяжело опускается на стул, закуривает.
— У сменщика подъемник кузова забарахлил. Сделали… Чуть пальцы не поморозили.
Но это сообщение подталкивает Смирницкого на ошибочный шаг: он предпринимает последнюю попытку, пытаясь использовать ситуацию.
— Странно… А тебе-то зачем? — спрашивает он. — Ведь и в самом деле, смена не твоя. Или чувство локтя… все-таки есть. Отрицаешь? Нет?
И тут Баранчук окидывает противника уничтожающим взглядом.
— Понимаешь ли, Виктор, — проникновенно говорит он, — если бы я не помог ему, то завтра пришлось бы самому в ремонте сидеть. На средней сдельной. Еще вопросы есть к докладчику?
Умолкает Смирницкий, задумывается.
— Один вопрос есть. Мы не определили срок нашего… пари. На какое время?
— На… всю жизнь, — Баранчук делает великодушный жест. — Мне не жалко. А хочешь — прощу. А? Черт с ним, с коньяком, не бедные. Все равно ничего не докажешь. Поищешь другой объект. Как, устраивает это тебя?
— Ни в коем случае. Нет, Эдик, не устраивает. Спорить так спорить.
Москвич встает, помедлив, подходит к вешалке. Останавливается. Оглядывается. Улыбается. Медленно, очень медленно снимает свое пальто. Аккуратно надевает его. Расправляет складки. И не спеша выходит из вагончика на свежий воздух.
Вот он спускается с крыльца, вот пересекает дорогу. Лицо его сосредоточенно и спокойно, словно этот человек принял какое-то важное решение. Интересно, куда это сейчас направляется Смирницкий?
За последнее время у Виктора Васильевича Стародубцева накопилась масса бумаг. Впрочем, это была постоянная «болезнь» начальника сто тридцать первой мехколонны — он терпеть не мог работать с бумагами, а предпочитал живую энергичную деятельность вне «кабинета», на трассе, с людьми. Даже собственные радиограммы он предварительно не записывал, как того требовала инструкция, а диктовал радисту на слух с непосредственным выходом в эфир. Иной раз в Центре помирали со смеху над такими радиограммами, но потом привыкли и перестали удивляться, поскольку, несмотря на очевидную эксцентричность посланий Стародубцева, они, безусловно, несли в себе деловой реальный заряд.
Но с документацией, с текущими бумагами все же приходилось работать Виктору Васильевичу, хоть и претили они его действенному и неукротимому характеру.
Вот и сегодня вечером сидит он за столом, водрузив могучие локти на столешницу. Сидит плотно, в распахнутой дубленой безрукавке, смотрит на листочки поверх очков, делает пометки и бубнит себе в пушистые грозные усы такое, что лучше никому этого не слышать.
В такой позе, в таком душевном настрое и застает начальника Виктор Смирницкий, воспользовавшийся недавним приглашением и заглянувший не просто на огонек, а, вероятно, по неотложному и серьезному делу.
Впрочем, Стародубцева радует неожиданная возможность отвлечься от ненавистных бумаг. Он с несомненным радушием улыбается и делает активно-приглашающий жест непрошеному гостю:
— Заходи, заходи, корреспондент. Чего на пороге топтаться? Садись, гостем будешь.
— Добрый вечер, — произносит вежливый Смирницкий, подвигая к себе казенный табурет.
— Добрый, добрый. Ух ты, уже вечер! Совсем бумажки заели. Ну, что хорошего скажешь? Как там двигаются твои газетные дела? Может, помощь нужна?
Смирницкий тяжело вздыхает, что наверняка не ускользает от многоопытного Стародубцева: знает хитрый начальник, очень хорошо знает — кончается сегодня срок командировки у корреспондента. Что-то он сейчас скажет, ведь неспроста же пожаловал.
— Помощь не нужна… Я по делу, Виктор Васильевич. По важному и неотложному.
— Выкладывай.
Смирницкий берет со стола Стародубцева чистый лист бумаги, а потом уже спрашивает:
— Разрешите?
— Да хоть вагон! Бери больше. У меня этого добра навалом.
— Хватит и одного, — как-то криво усмехается специальный корреспондент.
Но и этот листок он аккуратно складывает и по сгибу рвет на две равные части. Затем, опять же без спроса, — видимо, расстроен чем-то — берет со стола Стародубцева ручку и четким красивым, но мелким почерком пишет сначала на одной половинке, потом — на другой. Закончив, протягивает первый листок Виктору Васильевичу:
Читать дальше