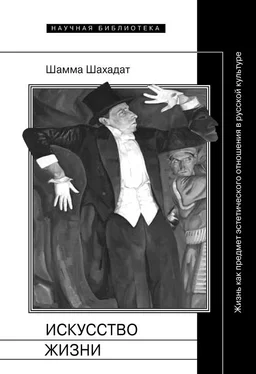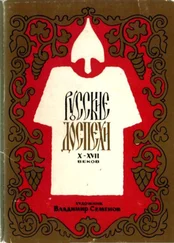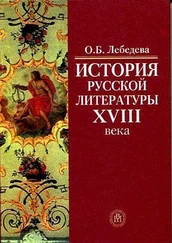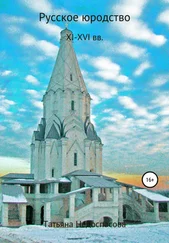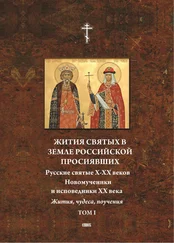Согласно Беньямину, для Бодлера шок не только служил бессознательным творческим импульсом, но и сознательно использовался им как тактический прием: «Находясь во власти страха, Бодлер не чужд желания этот страх вызывать. Валлес описывает его эксцентрическую мимику, Понмартен отмечает потерянное лицо Бодлера на портрете Наржо, Клодель вспоминает резкие интонации, присущие Бодлеру в разговоре, Готье упоминает “задержки речи”, которыми Бодлер любил сопровождать свою декламацию, Надар описывает неровную походку» (Benjamin, 1991, 616).
См. интерпретацию Беньямина у Синтии Чейз (Chase, 1993, 214 и далее), связывающей ее с фрейдовским образом волшебного блокнота: «Когда Беньямин толкует беспорядочное рисование М.Г. как акт осознания, он сближается с концепцией Фрейда, рассматривающего в “Заметках о волшебном блокноте” (Т. 3) психику как записывающее устройство, тем более что сознание, по Фрейду, всегда есть лишь дополнительный, технический, материальный процесс» (Там же, 215).
У Бодлера (по Беньямину) художник терпит поражения, так как не может активировать силу сопротивления шоку; произведение искусства, возникающее в результате этого, делает проигравшего победителем; так это в случае с Белым.
В статье «Трагедия творчества» (1911).
Слова Белого представляют собой парафраз фрагмента из «Братьев Карамазовых».
Аналогия Бодлер – Белый распадается в том центральном аспекте, который был подчеркнут Беньямином: в отношении к толпе. Для шока, испытываемого Бодлером, толпа является важнейшим условием: «Эта толпа, о существовании которой Бодлер никогда не забывал, ни в одном произведении не служила ему моделью. Но она вписана в его творчество в качестве скрытой фигуры ‹…›. В ней вырисовывается образ фехтовальщика: удары, которые он наносит, предназначены для того, чтобы проложить себе дорогу сквозь толпу» (Benjamin, 1991, 618). Для Белого толпа не играет никакой роли, он живет в замкнутом символистском кружке. Позднее толпа приобретает важное значение у футуристов: революционные массы оцениваются положительно, толпа мещан – отрицательно.
Так, Виктор Шкловский в своей книге «Zoo, или Письма не о любви» пишет: «В человеке, о котором я говорю [то есть о Белом], экстаз живет как на квартире, а не на даче. И в углу комнаты лежит, в кожаный чемодан завязанный, вихрь» (Шкловский, 1966, 194). Так же и Цветаева в своем эссе «Пленный дух», во второй его части «Встреча», где она рассказывает о нескольких своих встречах с Белым в Берлине, приводит его восторженный отзыв о ее стихах и следующие слова: “Простите! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня в кафе, говорить такие вещи – раз навсегда! Но я – всегда в кафе! Я – обречен на кафе!”» (Цветаева, 1984, 264). Белый изображает здесь себя скандалистом – человеком, в неправильном месте говорящим неправильные слова, и вместе с тем человеком неправильного места, у которого нет никакого другого, кроме этого неправильного.
Белый, 1994, 398.
Лахманн и сам скандал описывает как вариант rite de passage , как переход от нормального к ненормальному состоянию (Lachmann, 1990, 263).
Скандал, происходивший в январе 1909 года в «Литературно-художественном кружке», не был единственным, хотя для истории создания (или легенды) «Серебряного голубя» именно он имел наибольшее значение.
Это понятие ввел Вяч. Иванов в статье «Достоевский и роман-трагедия» применительно к роману «Бесы».
«Вдруг перед старой выросло нелепое лицо, до ужаса безобразное, и совиный носик над ней закачался, и над ней помаргивали гладкие, сладкие, как ей показалось, щелкие глаза, а длинная с испанской луковицей рука протянулась к самому ее носу» (Белый, 1995, 100).
Оборотная, комическая сторона этой логики обозначается метафорой «луковица»: скандальные сцены Достоевского представляют собой как бы внешний слой, а следующий, для которого он служит образцом, – скандал в романе Белого.
Так, например, Киприан Норвид в некоторых стихотворениях из «Vade-Mecum» (1886): «Autorov – sadza ich dziela, / Nie – autorzy autorow!» («Суд над автором – в его текстах, а не в руках других авторов») – Norwid, 1981, 128. Еще один пример – насмешка над «лириком для печати» в стихотворении «Lyrika I druk»: «Nie czuje strun, drzacych pod palcem twym – / Jesres poezji drukarz» («Не чувствую, как струны дрожат под твоими пальцами / ты тот, кто поэзию – печатает» (Там же, 88).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу