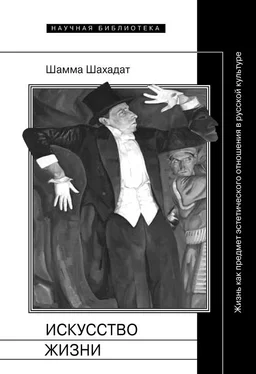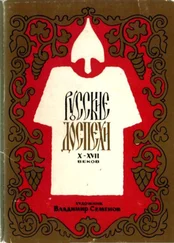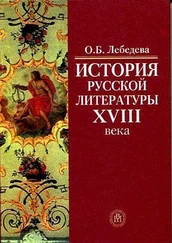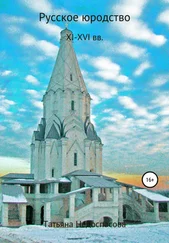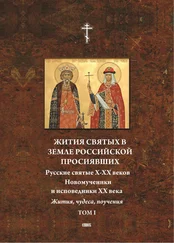Однажды, еще в России, я дал Лиде прочесть одну вещицу в рукописи, сказав, что сочинил знакомый, – Лида нашла, что скучно, не дочитала – моего почерка она до сих пор не знает, – у меня ровным счетом двадцать пять почерков, – лучшие из них, то есть те, которые я охотнее всего употребляю, суть следующие: круглявый; с приятными сдобными утолщениями, каждое слово – прямо из кондитерской ‹…› и, наконец, почерк, который я особенно ценю: крупный, четкий, твердый и совершенно безличный, словно пишет им абстрактная, в схематической манжете, рука, изображаемая в учебниках физики и на указательных столбах. Я начал именно этим почерком писать предлагаемую читателю повесть, но вскоре сбился – повесть эта написана всеми двадцатью пятью почерками ‹…› подумают, быть может, что писали мою повесть несколько человек – а также весьма возможно, что какой-нибудь крысоподобный эксперт с хитрым личиком усмотрит в этой какографической роскоши признак ненормальности. Тем лучше (381).
В приведенном отрывке присутствует целый ряд высказываний, касающихся интертекстуальности; наиболее очевидным из них является признание героя в том, что он владеет различными почерками, где почерк служит метафорой чужого текста. «Круглявый почерк» с его узорными украшениями намекает на барочную традицию, которая, как показала Рената Лахманн, вписана в «Отчаяние» в качестве основополагающего принципа поэтики [689]. Любимый почерк Германа отличается безличностью; если рассматривать это предпочтение как намек на метаинтертекстуальность, то весь роман выступает в качестве своего рода интертекстуального вампира, который вбирает в себя все другие тексты, а сам остается безличным. Поскольку, однако, Набоков охотно пользуется фигурой ненадежного рассказчика ( unreliable narrator ), а Герман и вовсе склонен ко лжи [690], этому высказыванию не следует особенно доверять; скорее можно предположить, что «Отчаяние» претендует на положение сверхтекста, обессмысливающего свои претексты, отнимающего у них их значение. Именно такой эксцепциональный статус придает «Отчаянию» Игорь Смирнов, выдвигая тезис о «рождении жанра из кризиса институций» [691]. Представляя себе, что его текст мог бы быть приписан нескольким другим авторам, Герман поднимает тему плагиата, никогда не перестававшую играть роль в дискуссии об интертекстуальности: с какого момента текст превращается в копию, граничащую с плагиатом, и где тот предел, до которого он остается оригинальным? Наконец, содержащаяся в приведенном фрагменте ирония над банальностью психоаналитической интерпретации свидетельствует о том, что он был важен Набокову / Герману и как выпад против Фрейда, «венского фельдшера» [692]. Герман, образ рафинированной сложности, объединивший в себе черты безумца, убийцы и – пусть лишенного зоркости – художника, не сводится к фигуре психически больного пациента по Фрейду. Функция отмеченного фрагмента, развертывающего разнообразные перспективы межтекстовых отношений, заключается в создании интертекстуальных отсылок – роман представляет собой не текст, а множество текстов, гипертекст.
Что же означает конкретно это набоковское обновление и переписывание, критическая переоценка романа Андрея Белого? На фоне символистского романа «Отчаяние» предстает как «опоздавший» («belated», по Харолду Блуму) текст, неизбежно провоцирующий ложное прочтение. Герман – «опоздавший» поэт-символист, воспринимающий текст как жизнь и стремящийся реализовать свой текст в жизни. Причина его неудачи – невозможность такого воплощения, несходство текста и жизни. Эти противоречия – между жизнью и текстом, между символистским и постсимволистским романом, между Германом и Феликсом – образуют тему романа, ее он раскрывает и ее решения ищет на практике.
Тексты Белого и Набокова обнаруживают целый ряд частных параллелей, важнейшими из которых являются лицо, распавшееся на фрагменты, и палка. Но прежде следует отметить несколько общих центральных мотивов – куст, украденные бриллианты и скандал. В обоих текстах по несколько раз упоминается «куст» – факт, представляющий интерес, потому что Белый является также автором рассказа «Куст», с которым «Серебряный голубь» связан автоинтертекстуальными отношениями. В посттексте Набокова образ куста, если сравнить его с таковым в «Серебряном голубе», подвергается десимволизации и лишается «демонических» коннотаций [693]; он играет роль маркировки, устанавливающей связь с рассказом Белого как с претекстом «Серебряного голубя». Поскольку отношения между рассказом «Куст» и романом «Серебряный голубь» строятся по мотиву любовного треугольника, данная маркировка в «Отчаянии» нужна для того, чтобы подчеркнуть значение треугольника и в этом романе, создав тем самым интертекстуальный ряд аналогичных ситуаций: Любовь Дмитриевна – Блок – Белый; Матрена – Кудеяров – Дарьяльский; Лида – Герман – Ардалион. Однако сходство между персонажами обманчиво: если в жизни и творчестве Белого афера заканчивается поражением любовника, то у Набокова поражение терпит обманутый муж. В отличие от изображаемого Набоковым эмигрантского Берлина, в котором господствует мелкобуржуазная мораль и Герман, подчиняясь ей, старается не замечать очевидных признаков супружеской измены, мужья в символистском романе активно участвуют в создании треугольника, либо допуская его (Блок), либо его замышляя (Кудеяров).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу