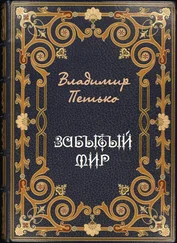— Да что же знать-то надо?
— А все! Ничем не брезгуй. И как лес шумит, и как птички поют. «Всякое знание благо есть», — истинно мудрые слова древними сказаны. Помнишь, как Плутархос про кесаря Юлия рассказывал? Тот все помнил, все учитывал. Вишь, как они нынче уши топориком поставили — птицы, дескать, молчат. И ведь верно, распугали мы птиц...
— А где ты по-ихнему научился?
— В Плескове-городе какую только речь не услышишь, только уши отворяй.
— Ты из Плескова?
— Из Новагорода я... Да не ужился там.
— А что?
— Дрянной народишко, пустой... Баламуты, горлопаны. Никто им хвоста как следует не прищемлял, вот и базланят. И на сторону, и меж собой... Пять концов — пять умов, и каждый — всех умнее. Чуть что — бух в колокол, шасть на площадь, и в ругань, и в крик, и за бороды друг друга. Тьфу! Прости Господи.
— А в Плескове по-другому?
— Там посолидней народ, поспокойней. Да и не побалаганишь особо — немцы рядом. То и дело — хватай рогатину да встречай гостей.
Митя лежал на спине, смотрел на звезды. Покой возвращался, усталость наваливалась дремотой. Голос монаха журчал ручьем, через равные промежутки замирая, монах прислушивался:
— ...однажды тоже так подошли немцы. За рекой, правда, остановились. Побоялись, лед еще совсем тонкий был. А у нас Володша Строилыч, отчаянная башка — страсть, жив ли еще, храни его Бог. А ну, кричит, кто пожиже, вали за мной! Я к ним и притесался. Взяли копья подлинней, да ночью ползком через реку по ледку этому, а он трещит, язва! Переползли... да прямо в лагерь к ним! Не столько побили, сколько напугали. Такой шум подняли, разбежались наши немцы в разные стороны, как куры.
Монах прислушался. Лес тихо-тихо шелестел, за оврагом фыркали кони. Мальчик дышал ровно и громко...
...Множество людей на площади. Все кричат и ругаются между собой. Он стоит в этой толпе рядом с большой красивой женщиной и знает, что это — мать, и прижимается к ней, а она спокойна, одной рукой обнимает его за плечи, а другой легонько, он еле ощущает, гладит по голове.
Кажется, она главная здесь, потому что к ней все обращаются очень почтительно, хотя гвалт и ругань нарастают.
Наконец скандал переходит в драку. Все дерутся между собой, но как-то странно: каждый как будто защищает его мать от других. Лязгают мечи, но ими никто не убивает. Убивают неизвестно откуда прилетающие стрелы, толстые, короткие — отвратительные. Лужа алой крови разливается все шире, вот уже и они с матерью стоят в этой луже, а драка все разрастается, и падают, падают люди...
Вдруг из-за толпы появляется на вороном коне огромный татарин с длинными белыми усами. Узкие глаза его горят красным, как головешки, все в ужасе разбегаются перед ним, они с матерью остаются одни посреди площади, а татарин едет на них и достает из колчана не стрелу — молнию! Он направляет ее на мать, а она не бежит и не кричит, стоит по-прежнему тихо, обнимает его за плечи, только из глаз ее бегут слезинки. Он нагибается и выхватывает у кого-то из убитых огромный меч. Меч оказывается неожиданно легким, как пушинка, и когда татарин замахивается молнией, он изо всей силы бьет по ней мечом. Молния разлетается на тысячи брызг, а вместе с нею неожиданно разваливается на куски и татарин.
Он облегченно переводит дух, но видит: от края площади едет еще татарин, больше и страшней прежнего, а в руке у него опять молния! В отчаянии он кидается на этого татарина, размахивая мечом, тот удивленно пятится, потом поднимает молнию...
Мальчик вскрикивает и просыпается.
— Что, княже, плохой сон? — Ефим участливо заглядывает в глаза. Рядом с ним привалился к дереву Орефий-бортник. Почти совсем закопавшись в ветках, закутавшись в плащ, спит монах. Светает...
— Да, привиделось что-то...
— Не простой это сон, сыне, запомни его, — покачал головою монах, когда Митя рассказал ему наутро. Но размышлять над сном было некогда, торопились спрятать следы.
Мертвых похоронили, раненых вместе с захваченными оружием и доспехом на подоспевших подводах отправили в Бобровку. Живых коней переловили, битых отволокли подальше в чащу на съедение воронью и прочей лесной нечисти. Завал с тропы убрали.
В общем, от всего происшедшего остался холм на «ближнем верхе», в сотне сажен от тропы, заботливо прикрытый дерном, — его уже через пять дней трудно будет принять за новый, — да помятый кустарник в овраге.
После обеда вернулись из засады дружинники. С добычей. Четыре израненных поляка ускользнули-таки из оврага, их-то, ослабевших, еле двигавшихся, и переловили поодиночке по дороге.
Читать дальше