Ленин шепчет, едва двигая губами:
– Призраки… замученных приходят ко мне… угрожают… проклинают… Это не я убивал! Это Дзержинский! Ненавижу его! Торкве-мада… палач… безумец кровавый! Убей его! Убей его!
Хочет протянуть руку к стоящему перед ним человеку. Не может. Холодные руки тяготят его, словно наполненные оловом… Губы начинают дрожать, язык деревенеет, пена выступает на губах и стекает на подбородок, шею и грудь…
– За… тов… бра… Ел… злот… – шелестят беспорядочно и разбегаются во все стороны стоны, ворчание, бессмыслица…
Врач отсылает агента. Апанасевич уходит, качая головой и шепча угодливо:
– Тяжело больной! Такой удар… вождь народа… единственный, незаменимый…
Снова ползли однообразные, долгие дни горячки и разражающегося на короткое время безумия, тащились нескончаемые, тяжелые часы потери сознания, бессознательных шепотов, невыразимых беспомощных жалоб, глухих стонов, хриплых криков.
Ленин метался и боролся с невидимыми структурами, которые толкались около его кровати, заглядывали ему под веки, плакали над ним кроваво, причитали мрачно, шипели, как змеи. Не знал, что вспыхнула предсказанная им во многих речах и статьях революция в Киле и со скоростью молнии промчалась по всей Германии, вынуждая Гогенцоллернов отречься от престола, а армию германскую к отводу войск за Рейн и к перемирию. Не предугадывал, что разлетелась уже на части гордая империя Габсбургов и что во всех странах среди хаоса событий, споров и смуты поднимал голову проповедуемый из Кремля коммунизм. Уже произносил речи устами Либкнехта и Розы Люксембург в Берлине, уже призывали к диктатуре пролетариата Leon Jogiches, псевдоним Тышка, в Мюнхене, Бела Кун в Будапеште, Майша и Миллер в Праге. Их голосов не слышал творец и пророк военного коммунизма. Он боролся со смертью.
Во время редких минут сознания боялся оставаться один, и ночью, видя, что медсестру сморил сон, будил ее и умоляюще смотрел на нее, говоря только глазами, полными горячих беспокойных вспышек.
– Боюсь… не спите, товарищ!
Возвращаясь неожиданно в сознание и не имея возможности говорить и даже двинуть рукой, дрожал и с непомерным страхом ожидал терзающих его призраков.
Они приходили к нему и вставали с обеих сторон кровати.
Другие привидения, выглядывающие отовсюду, трясущиеся от злобного смеха, мчались тайком, исчезая без следа в пучине безграничной пустоты, начинающейся тут же, перед его зрачками, и уходящей в даль космоса.
Были это страшные призраки, самые страшные и самые жестокие. Брат Александр, красно-синий, с вывалившимся опухшим и черным языком, с веревкой, стягивающей ему шею; он маячил перед ним, как если бы болтаясь на веревке, и бросал неразборчивые, тяжелые, безжалостные слова. Хрипел, с напряжением двигая опухшими губами и длинным неподвижным языком:
– Погибали мы на виселицах… в подземельях Шлиссельбурга, в рудниках Сибири… Пестель… Каховский… Рылеев… Бестужев… Желябов… Халтурин… Перовская… Кибальчич… я, брат твой, и сотни… тысячи мучеников. Умирали мы с радостной, гордой мыслью, что прокладываем нашему народу дорогу к счастью… Но вот приходишь ты… в прах, в небытие превращаешь нашу жертву… убиваешь в нас радость и спокойствие… Приготовили мы дорогу для тебя… предателя… палача… тирана… Будь ты проклят во веки веков! Проклят!
Отзывалась голосом грозным в своей скорби другая фигура, стоящая у кровати. Седая голова тряслась, глубоко запавшие глаза блестели мрачно… поднималась высоко ладонь с пальцами, искривленными, как когти.
«Снова Мина Фрумкин, старая еврейка», – бьется под черепом мысль и парит, как нетопырь, молниеносно, без шума.
Но привидение начинает шептать горячо и гневно:
– Не обманешь себя! Напрасно! Должен меня узнать… Я мать твоя! Я учила тебя любви к угнетенному народу… Побуждала к направлению ему лучей света… проповедовала веру в наивысшую силу, которая есть все и кроме которой нет ничего. Ты проливаешь море крови… разжигаешь дикие страсти темного народа, на преступления его посылаешь… на Бога руку преступную поднимаешь… Безумный, не знаешь, что предрешены дороги жизни людей и народов! Ничего не сделаешь против этого! Каждое высокомерное усилие сгинет в глубине веков, как песчинка в пустыне… Останется после него черное воспоминание и твое имя, ненавистное и проклятое в поколениях, покуда станешь вводящей в заблуждение мерой и утонешь в забвении во веки веков… Будь проклят!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





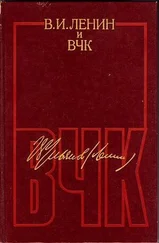



![Антоний Фердинанд Оссендовский - Мирные завоеватели [Избранные сочинения. Том IV]](/books/407725/antonij-ferdinand-ossendovskij-mirnye-zavoevateli-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Перуново урочище [Избранные сочинения. Том III]](/books/407981/antonij-ferdinand-ossendovskij-perunovo-urochiche-i-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Бриг «Ужас» [Избранные сочинения. Том II]](/books/408068/antonij-ferdinand-ossendovskij-brig-uzhas-izbran-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Тайна трех смертей [Избранные сочинения. Том I]](/books/408118/antonij-ferdinand-ossendovskij-tajna-treh-smertej-thumb.webp)