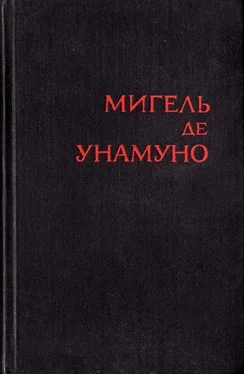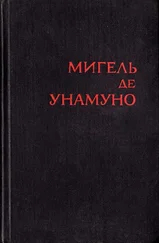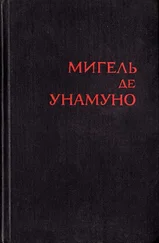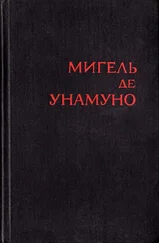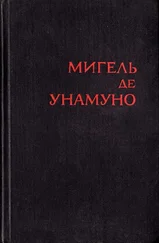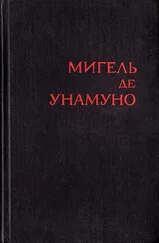– И вскоре придете нас навестить?
– Не знаю.
– Но если вы не придете, бедняжка мне не поверит и будет огорчена.
– Я, видите ли, намерен предпринять долгое и далекое путешествие.
– Но прежде вы придете проститься?
– Посмотрим.
Они расстались. Когда донья Эрмелинда, придя домой; передала племяннице свой разговор с Аугусто, Эухения сказала про себя: «Там появилась другая, нет сомнения? теперь я должна завоевать его снова». – Аугусто, в свою очередь, оставшись один и расхаживая по комнате, говорил себе: «Она хочет мною играть, для нее я как фортепьяно. Бросает, берет, йотом снова бросит… Меня держали про запас. Что там ни говори, она хочет, чтобы я снова сделал ей предложение – может быть, чтобы отомстить или чтобы тот, другой, ее приревновал и вернулся… Как будто я кукла, игрушка, дон Никто… А у меня есть свой характер, да, есть; я это я! Я это я! Я обязан Эухении; не могу отрицать, она пробудила во мне способность к любви; но раз она ее пробудила и оживила, теперь Эухения мне больше не нужна, женщин более чем достаточно».
Тут он не мог сдержать улыбки: ему вспомнились слова Виктора, сказанные их другу Хервасио, когда тот после свадьбы объявил, что едет с женой в Париж. «Ехать в Париж, – сказал Виктор, – с женой? Это все равно что везти треску в Шотландию!» Аугусто тогда от души смеялся.
И он продолжал: «Женщин более чем достаточно. Сколько очарования в коварной невинности, в невинном коварстве Росарио, этого нового издания вечной Евы! Очаровательная девочка! Эухения низвела меня от абстрактного к конкретному, эта же привела к родовому, а кругом" столько соблазнительных женщин… Столько Эухении! Столько Росарио! Нет, нет, мною никто играть не будет, особенно женщина. Я это я! Пусть у меня маленькая душа, но она моя!» И, чувствуя, как это его «я» словно разбухает, разбухает и в доме ему уже тесно, Аугусто вышел на улицу, где этому «я» будет просторней и вольготней.
Едва он сделал первые шаги на улице, увидел небо над головой, увидел прохожих, – все шли по своим делам, не замечая его, конечно, без умысла и не обращая на него внимания просто потому, что не были с ним знакомы, – Аугусто почувствовал, что его «я», то самое «я» в горделивом «я это я!», стало уменьшаться, уменьшаться и снова уместилось в его теле и даже внутри тела стало искать уголок, где бы спрятаться, чтоб его никто не видел. Улица казалась ему кинематографом, а он сам чувствовал себя тенью на экране, каким-то признаком. Погружение в толпу, затерянность в массе людей, которые двигались, ничего не зная о нем и не замечая его, всегда действовали на него так же, как погружение в природу, под открытым небом, на вольном ветру.
Только наедине он ощущал себя, только наедине он мог говорить себе, быть может, чтобы себя убедить: «Я это я!» Среди людей, затерянный в озабоченной или веселящейся толпе, он терял ощущение самого себя.
Так пришел Аутусто в укромный садик на пустынной площади того удаленного от центра района, в котором он жид. Площадь эта была спокойной заводью, где всегда играли дети; там не громыхали трамваи, не мчались автомобили; какие-то старички приходили погреться на солнце приятными осенними днями, когда листья с дюжины индийских каштанов, росших здесь за решеткой кружились, гонимые северным ветром, по плитам мостовой или покрывали сиденья деревянных скамеек, как обычно выкрашенных в зеленый цвет, цвет молодой листвы. Эти ухоженные городские деревья, посаженные в правильном порядке, получавшие воду, если не было дождя, в определенные часы из оросительной канавки а протянувшие свои корни под плитами мостовой; эта деревья-пленники, вынужденные ждать, когда солнца взойдет над крышами домов, а потом спрячется; эти деревья-узники, скучавшие, наверное, по родному лесу, притягивали его с таинственной силой. В их кронах пели птицы, тоже городские, приученные улетать от детишек и приближаться иной раз к старикам, которые бросают им хлебные крошки.
Сколько раз, сидя в одиночестве на зеленой скамейке посреди маленькой площади, он видел пожар заката над крышами, а иногда в огненном золоте багряного света темнел силуэт черной кошки на трубе соседнего дома! Теперь была осень, осыпались листья, желтые, лапчатые, как листья винограда; похожие на засохшие, сплющенные кисти мумии, они падали на клумбы в центре площади, на дорожки и цветочные горшки. И дети играла среди сухих листьев, собирая их в охапки и не замечая пылающего заката.
Когда он пришел на спокойную площадь и присел на скамью, не преминув смахнуть с сиденья сухие листья, – ведь была осень – там играли, как обычно, ребятишки. Один из них поставил другого к стволу индийского капитана, хорошенько прижал и сказал: «Ты будешь пленником, тебя схватили бандиты…» – «Да ведь я…» – отозвался недовольно мальчик, но первый его перебил; «Нет, ты уже не ты…» Аутусто не желал этого слушать, он поднялся и пересел на другую скамью. И сказал себе!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу