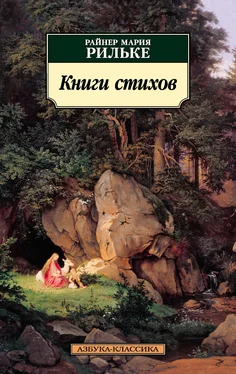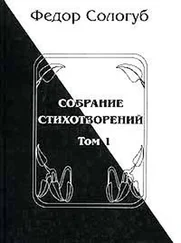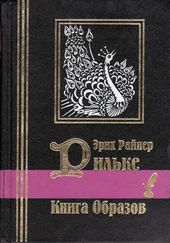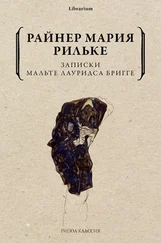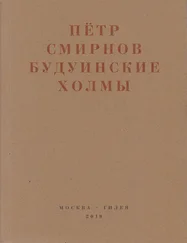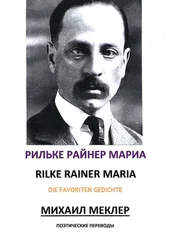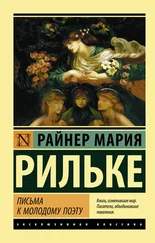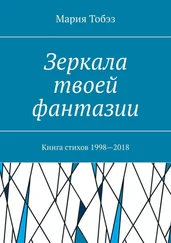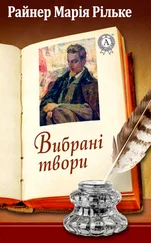1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 Так в поэзию Рильке вступает жалоба как творческое начало и с нею смерть, настоящая природа или сама жизнь, упраздняющая ложную театральность прямо-таки в духе Московского Художественного театра со Станиславским во главе:
Осталась после твоего ухода
в кулисах щель, и к нам исподтишка
проникла настоящая природа:
немного солнца, ветер, облака.
Играем дальше. Машем вновь руками,
заученные фразы говорим,
но, все еще причастна к нашей драме,
способна ты присутствием твоим
охватывать нас вдруг, и вторит сцена
природе наизусть, как вторит эхо,
и в это время мы самозабвенно
играем жизнь, и нам не до успеха.
В грандиозной панораме античных, библейских и остросовременных сюжетов жалоба снова выступает как диссонанс, но без нее трудно представить себе остальное. В стихотворении «Орфей. Эвридика. Гермес», в котором распознается античный барельеф, скорбная песнь Орфея создает жалобную вселенную и жалобное небо, но сама жалоба – пронзительная трещина в живописной непреложности вещей, так как жалоба – не вещь, и поэту вскоре пришлось в этом убедиться.
6
Влияние Родена в жизни Рильке идет постепенно на убыль после бурной кульминации в 1905 году, когда Роден приглашает Рильке пожить в его медонском доме и Рильке с энтузиазмом соглашается. Роден предлагает ему работу: Рильке должен упорядочивать и частично вести его переписку, получая за это жалованье: двести франков в месяц. Сначала восхищенье Рильке мастером нарастает, что способствует работе над «Новыми стихотворениями», но отношения Родена со своим адептом постепенно портятся. Выясняется, что выполнение секретарских обязанностей требует от поэта гораздо больше времени, чем он рассчитывал, да и сказывается естественная несовместимость двух творческих личностей. Так или иначе, Рильке проработал секретарем Родена около полугода, и период их близких отношений завершился бурной ссорой. Это произошло 12 мая 1906 года. Правда, в 1907 году произойдет примирение с Роденом, но эпоха «Новых стихотворений» в жизни Рильке постепенно проходит. В 1909 году Рильке завершает свой роман «Записки Мальте Лауридса Бригге», сопутствующий «Новым стихотворениям» и перекликающийся с ними. После этого Рильке замолкает на несколько лет.
Вряд ли стоит принимать подобное затяжное молчание за творческий кризис, как поступают некоторые литературоведы. Это было время напряженной внутренней работы над будущими книгами, которые поэт уже предчувствовал, но подчас еще даже не представлял себе. Творческая энергия «Новых стихотворений» впала в инерцию. Так можно было и дальше писать без особых открытий, что недостойно поэта. Впрочем, Рильке и в это время создает отдельные, весьма значительные стихотворения, не вошедшие при жизни в его книги, хотя Рильке – поэт целых книг, а не отдельных стихотворений, среди которых выделяется «Поворот», где Рильке с большой лирической силой отмежевывается от «Новых стихотворений»:
Есть созерцанью предел.
И созерцаемый мир
хочет в любви процветать.
Зренье свой мир сотворило.
Сердце пускай творит.
Из картин, заключенных в тебе, ибо ты
одолел их, но ты их не знаешь.
За тринадцать лет от выхода «Записок Мальте Лауридса Бригге» (1910) до «Дуинских элегий» и «Сонетов к Орфею» (1923) выходит только одна поэтическая книга Рильке, но эта книга – «Жизнь Девы Марии», истинное творение сердца. Складывается впечатление, что, переживая время нелегких исканий, Рильке обращается за помощью к Деве Марии, чье имя входит в его имя – Райнер Мария. Швейцарский литературовед Беда Аллеман писал, что в «Жизни Девы Марии» Рильке впадает в тон, родственный «Книге Часов», и добавляет, что речь не может идти о серьезном возвращении к этой книге ( Rilke R. M. Werke. Insel Verlag. Band 1, 1984. Р. 6, 24). В западном литературоведении действительно имеется тенденция не принимать «Жизнь Девы Марии» всерьез, настолько эта книга не вписывается в концепции, трактующие творчество позднего Рильке. Книгу называют даже «одной из сублимированных пародий Рильке на образы христианской священной истории» ( Хольтхузен Г. Э. С. 167), хотя пародия в принципе не свойственна творчеству Рильке. Но всерьез трудно принять как раз антихристианские высказывания Рильке, например, когда он пишет в частном письме: «Я становлюсь едва ли не свирепым антихристианином…» (Там же. С. 179). Гораздо убедительнее суждение о тайном, скрытном, мучительном христианстве Рильке, с которым он никогда не порывал (Rilkes Sonette an Orpheus / Erläutert von Hermann Mörchen. W. Kohlhammer Verlag, 1958. Р. 41). Такое христианство дает себя знать в позднем творчестве Рильке при всех магических веяньях, озадачивающих и завораживающих.
Читать дальше