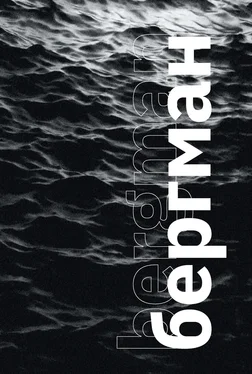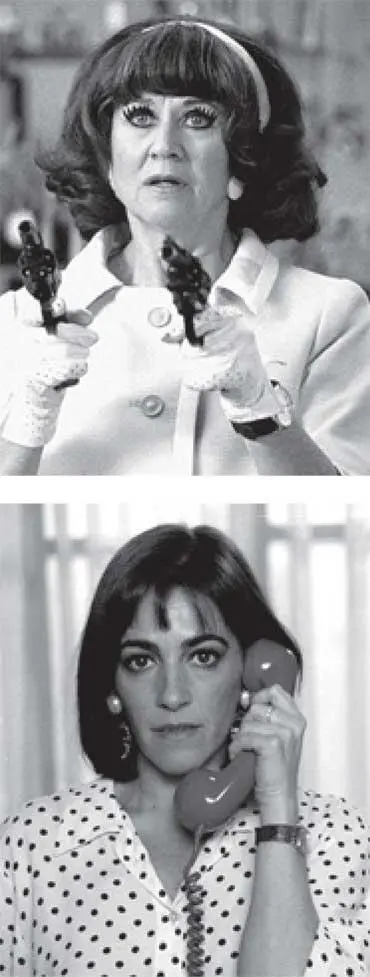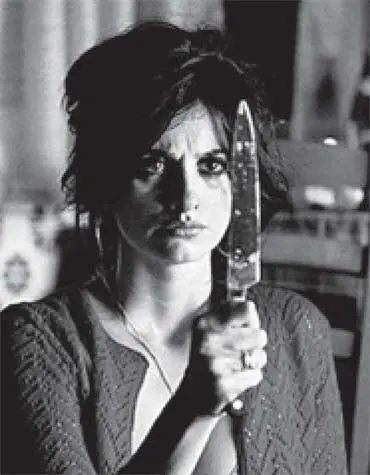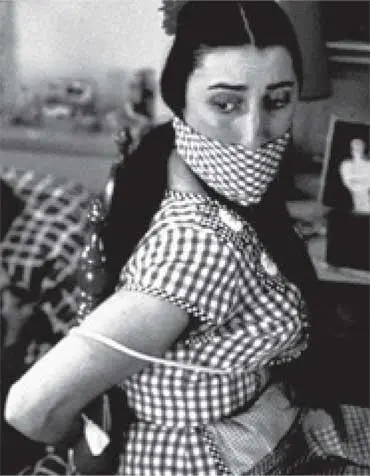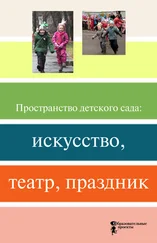Помимо столь очевидных и лежащих на поверхности «улик», есть и нечто более существенное, что изобличает тайную связь двух художников. Альмодовар сделал в испанском кино то, чего до конца никто не сумел в шведском, – освободил его от идолов, от тоталитаризма Большого Стиля, от Бунюэля и Сауры с их политическими метафорами. Избавил кинематограф и от сакрализации секса, и от затянувшегося переваривания азов экзистенциализма: последний трансформировался у него в испанскую философию «мовиды».
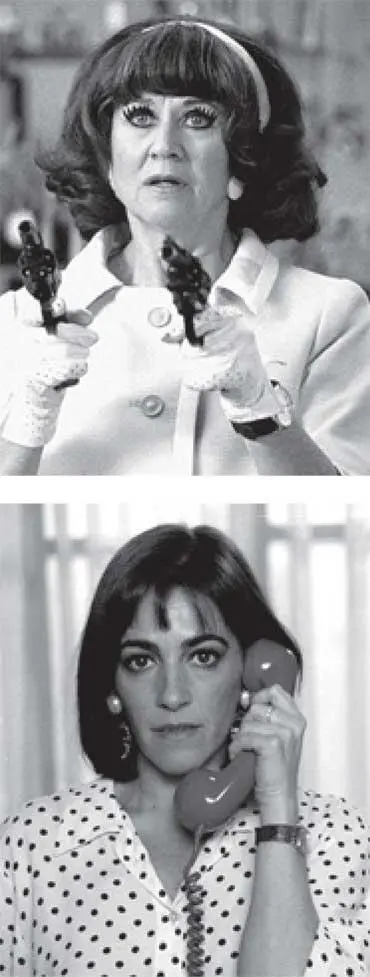
«Женщины на грани нервного срыва». Педро Альмодовар. 1988
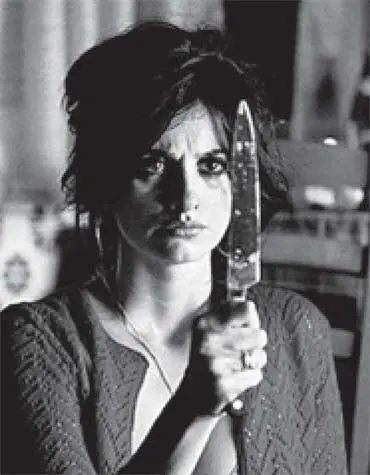
«Кика». Педро Альмодовар. 1993
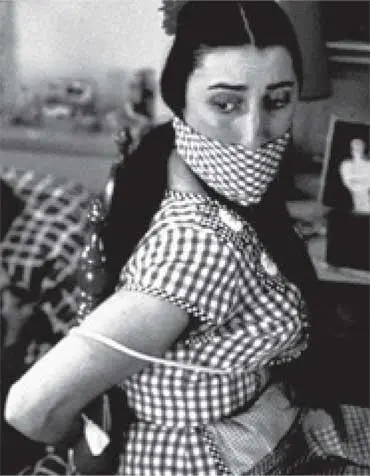
«Возвращение». Педро Альмодовар. 2006
Для прорыва в новую реальность, более живучую, чем сама жизнь, Альмодовар не просто использовал клише масскульта (кто из постмодернистов их не использовал!), но выбрал его иберийскую – самую доморощенную разновидность, обреченную на провинциальное прозябание в американизированном англоязычном мире. В рутинной испанской и латиноамериканской мелодраме он обнаружил чувственную энергию и жанровое напряжение на грани самоубийства формы. Привкус горечи и смерти всегда силен в его эротических комедиях.
Альмодовар начал свой путь в искусстве, выступая в мини-юбке, чулках в сеточку и туфлях на шпильках с рок-концертами. Легкой походкой на высоких каблуках он вошел в общество глосс, фикций, тотального господства массмедиа. В этом унифицированном обществе, где уже неразличимы границы между Испанией и Скандинавией, Альмодовар составил полный каталог объектов и субъектов. Сделал это на своем пятачке, на своем «острове», с бергмановской – нет другой параллели – прямотой. Как ни странно, Бергман оказался сродни этому новому универсуму.
Вопреки всему, международной славе в том числе, Альмодовар остался испанцем – и он ответствен за новый эстетический имидж постфранкистской Испании. Так некогда изучали Швецию по Бергману, видя в ней страну богоборчества, застывших чувств и фрустраций. Молодые шведские режиссеры «новой волны» попытались изменить это представление: в их фильмах шведские неврозы получили социальную мотивировку. Но «новая Швеция» оказалась недолговечным образованием – уже в 1970-е годы ее облик опять определяют «Сцены из супружеской жизни» и «Осенняя соната» – столь же специфично шведские, сколь и универсальные.
А в девяностые на родине Бергмана «самым шведским по духу» признают режиссера Колина Натли – англичанина, сменившего родину. Желая удостоверить психологическую подлинность изображаемой им на экране жизни мидл-класса, он обращается сразу к двум источникам. Картина Натли «Последний танец», с одной стороны, имитирует эстрадно-рекламную эстетику «высоких каблуков»: ее персонажи, две заурядные супружеские пары, разнообразят свою жизнь экзотическими танцами, в том числе в манере «латинос», и соперничеством в танцевальных конкурсах. Интрига их отношений включает и «мело», и «крими», а завершается вполне в духе Альмодовара: одна из героинь сбрасывает подругу-соперницу с моста и выходит «на каблуках и в перьях», чтобы исполнить свой коронный танец и закончить его уже в наручниках. С другой стороны, неслучайно одну из героинь играет Эва Фрелинг (мать Фанни и Александра), а вторую – актриса Хелена Бергстрем, по типу напоминающая Биби Андерссон. Сцены из супружеской жизни получились квазибергмановские, и недаром во время одного из объяснений на экране телевизора возникают титры фильма «Как в зеркале».
Академичный дедушка Бергман кажется современнее многих «молодых» – как добросовестных последователей, так и яростных оппонентов. Альмодовар прекрасно знает, что делает, снимая в своих картинах трансвестита с художественным псевдонимом Биби Андерссон и другого, Мигеля Бозе, сына блестящей пары – легендарного тореадора Домингина и кинобогини, звезды итальянского неореализма Лючии Бозе. Перевертыши и обманки, подделки и последствия благих намерений…
В ключевой сцене фильма Альмодовара «Высокие каблуки» выясняют отношения мать и взрослая дочь, охваченные плотным кольцом взаимной любви и ненависти, ревности и обид. Дочь, пытаясь что-то объяснить и не находя слов, вдруг вспоминает «Осеннюю сонату», садится за фортепьяно, начинает сбивчиво пересказывать сюжет фильма, и в нем обретает простейший коммуникативный код. И становится сверхнаглядным, что вся бравада постмодерна существует лишь постольку, поскольку она отталкивается от классических архетипов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу