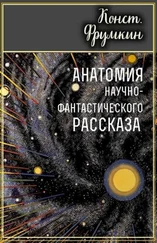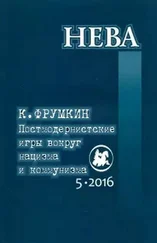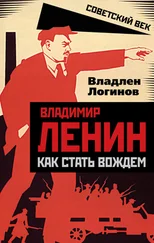1 ...6 7 8 10 11 12 ...132 «Рабочей Марсельезы», «но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слова своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли… Казалось, в воздухе поет огромная медная тру-ба, поет и будит людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство, там – возбуждая смутный трепет надежд, здесь – давая выход едкому потоку года-ми накопленной злобы».
Здесь не место углубляться в природу этого чуда преображения. Скажу только, что уже озвученный декламацией стих претерпевает известные перемены. Интересно в этом смысле свидетельство о том, как «удивительно смягчались» в напевном чтении Гете «самые грубые места “Илиады”». [21]Замечено, далее, что массовая аудитория склонна ухватывать в звучащем стихе его общий тон и отдельные слова, для этой аудитории особенно важные. Случалось такое даже с высокообразованной петербургской публикой. Аполлон Майков читает (в 1860 году) на публичном литературном вечере недавно написанный «Приговор», и в зале прорывается неожиданный, но общий аплодисмент на слове «свобода». В стихотворении нет никакой политики, речь идет о пении соловья, которое напомнило суровым судьям-богословам «…золотые сердца годы, / Золотые грезы счастья, / Золотые дни свободы». Год спустя на другом вечере вновь выступает Майков, звучит «Два карлина», стихотворение «грациозное, миленькое, умненькое, но есть в нем одно слово – «деспот». Это слово публика подхватила и стала хлопать. Ей как будто иногда и дела нет, к чему иное слово относится». [22]
В 1919 году в киевском театре перед толпой красноармейцев выступали поэты. «Выяснилось, что существенно лишь одно – в стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала… Зал взревел от счастья, когда выступил Валя Стенич со стихами о заседании Совнаркома. Этот человек, слишком рано всё понявший, сочинил острые стихи, запечатлевшие один исторический миг – разрез времени, его подоплеку, а толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово «Совнарком», как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию». [23]
Еще решительнее, чем декламация, сказывается на восприятии стиха пение. Музыка обволакивает его атмосферой волнующей приподнятости. [24]Тексты революционных песен, на глаз довольно неуклюжие, разностильные и суховатые, только в пении обретают художественную плоть. Цельная, литая мелодия марша, как обручем, охватывает стих; в мощном мелодическом пот оке тонут смысловые и стилевые шероховатости, над песней взмывает некий общий пафос волевой решимости и благородной силы, сквозь который брезжат короткие лозунговые фразы, обращенные не столько к разуму, сколько к чувству.
Здесь перед нами – один из парадоксов идеологизированной массовой культуры: политическая песня, порожденная идеологией и призванная ей служить, не имеет дела с идеями как таковыми. То, что передается от нее массовому исполнителю-слушателю, гораздо тоньше и неопределеннее, чем четко оформленная мысль. Не потому ли так легко мигрирует песня из одного идеологического лагеря в другой?
До 1933 года немецкие коммунисты и нацисты нередко обменивались песнями, приспосабливая их к своим нуждам при помощи «нескольких поправок в тексте», как вспоминал композитор-нацист Ганс Байер. Обходилось иногда и без поправок: любимая ленинская «Смело, товарищи, в ногу», подхваченная берлинскими коммунистами, пелась потом штурмовиками в неизмененном виде, и лишь позднее в ней появились специфические для нацистов словесные детали. [25]О песнях, которые верой и правдой служили и сталинской России, и гитлеровской Германии, речь пойдет далее отдельно. Как видно, неточно выразился Ильич, говоря о «пропаганде социализма посредством песни» (в статьях «Евгений Потье» и «Развитие рабочих хоров в Германии»). Если пропаганда – это «распространение в массах и разъяснение воззрений, идей, учения, знаний» (словарь С. И. Ожегова), то песня ничего не пропагандирует. Ее специальность – не разъяснять идеи, а внушать бесконечную веру в их непогрешимость.
«С верой святой в наше дело…»
«Что поешь – в то и веришь», – заметил Солженицын, раздумывая о том, почему «политическое начальство» так убеждено «в первостепенном воспитательном значении именно хора» [26]Начальство вряд ли изучало психологию музыки, но оно, по-видимому, кое-что знало о ее магической власти над нашим сознанием и волей. Власть эту глубоко чувствовал оникновенно редал Лев Толстой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
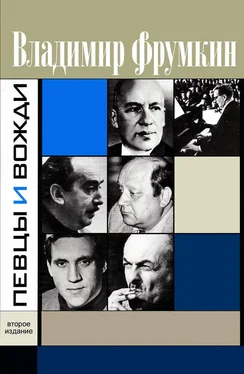
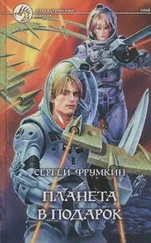
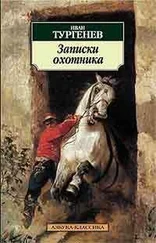


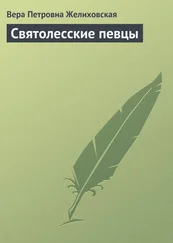
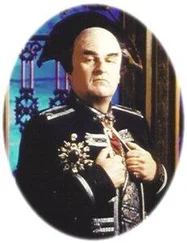
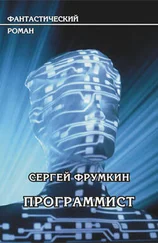

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)