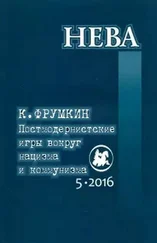Деятели РАПМа (Российской ассоциации пролетарских музыкантов) в пылу сражения против «легкого жанра» ополчились также на гимны гражданской войны и молодежные песни 20-х годов (типа «Там, вдали за рекой») – за их близость городской лирической и солдатской песне. Эти жанры фольклора объявлялись мещанскими, псевдореволюционными и солдафонскими и, следовательно, для пролетариата вредными. Между тем без поворота вспять, к привычной для миллионов русской мелодике, на успех новой песенности нечего было и рассчитывать. Весной 1932 года государство разгромило рапмовских фанатиков-пуритан, а заодно и все другие полунезависимые объединения (постановлением ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций»). Идеологический ригоризм в подходе к массовой музыке уступил место прагматизму. Результат сказался немедленно: тот же 1932 год стал годом перелома в истории советской массовой песни.
Казалось, что мастера песни, подобно алхимикам, открыли некую сакраментальную формулу, магический рецепт коммунистического шлягера. Новые песни становились всенародно популярными, едва появившись в фильме или прозвучав по радио. Они были близки музыкальному сознанию масс, ибо опирались на родные интонации, отстоявшиеся в русском городском и солдатском фольклоре, а также на элементы западной легкой музыки и джаза. Талантливые композиторы ковали из них прекрасные мелодии – пластичные и ясные, ухитрявшиеся сочетать лирическую тепло-ту с упругим маршевым шагом. Неотразимая музыка обеспечила новой песне львиную долю успеха.
Не отставали и поэты. Они научились говорить с массами просто, непринужденно и увлекательно, бросая им ловко сколоченные афористические фразы, которые, как крючки, зацепляли сознание и навсегда застревали в нем.
Подхваченные горячим, пульсирующим потоком музыки, эти призывы и сентенции заполонили страну: их цитируют в политических речах и докладах, художники снабжают ими плакаты и рисунки, редакторы выносят их в заголовки статей и фотоматериалов, народ включает их в повседневную речь.
Новые песни многое взяли от революционных гимнов: форму построения (куплет), технику лозунгов-афоризмов, маршевость походки. Остались в них и черты культовости (особенно в гимнах о Сталине, Ленине, партии), но, скорее, не христианской, а древней, языческой: в их звучании, в обстановке исполнения все заметнее проглядывает дремучая ритуальность с ее фетишизмом, культом вождей, манией переодеваний и шествий. [39]
В то же время смысловая основа классической советской песни – совсем иная. Песня нового типа полностью свободна от главного пафоса революционного искусства – пафоса отрицания. Его заменил пафос утверждения. Это уже не «песни народного гнева», некогда встретившиеся Бунину, но пес-ни всенародного счастья. Образ обещаемого прекрасного мира, когда-то маячивший где-то вдалеке, теперь разросся, заполнил всё песенное пространство и, главное, стал сегодняшним, уже достигнутым. Прежде декларативный и туманный, он обрел чувственные формы, краски, запахи:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Мелодия, которая несет эти бодрящие слова, прозрачна, как свирельный наигрыш, и подвижна, как легкий веселый марш. Возвращения ее с очередным куплетом ждешь как праздника. «Песню о встречном» написали Борис Корнилов и Дмитрий Шостакович для фильма «Встречный» в 1932 году. Фальшивый и посредственный фильм, в котором «сусальные ударники одерживали легкие победы», [40]давно забыт, а песня жива, ее еще помнят в России и знают за ее пределами: в 1948 году она стала (с новыми словами) гимном ООН, в Швейцарии ее пели на свадьбах. Историки и теоретики музыки рассматривают эту песню как истинное произведение искусства, достойное самого вдумчивого анализа. Интерес специалистов к «Песне о встречном» не случаен: она стала вехой в истории советского песнетворчества, с нее начался период ослепительного расцвета, пик которого совпал с апогеем «большого террора» 30-х годов.

Борис Корнилов (справа) с семьей. 1928
Песня эта задала тон массовой музыке всего предвоенного десятилетия – тон неомраченной радости. Написали ее молодые авторы: Корнилову было 25 лет, Шостаковичу – 26. Оба впоследствии оказались жертвами эпохи, но по-разному. Поэт был расстрелян в 1938-м. Композитор двумя года-ми ранее подвергся общественной казни (за оперу «Леди Макбет Мценско-го уезда» и балет «Светлый ручей»), затем публично покаялся, обещая «перестроиться», через год был обласкан (за Пятую симфонию), через 11 лет – снова экзекуция («антинародный композитор-формалист»), и эти мучительные циклы подъемов, падений, покаяний и перестроек наложили трагический отпечаток на его человеческую и художническую биографию. Свои счеты с официальной критикой были и у Корнилова. В начале 30-х годов он был вознесен ею (за массовые песни и поэму «Триполье»), в 1934-м Бухарин объявил его надеждой советской лирики и взял в редакцию «Известий». В 1936-м поэта отлучают от литературы: «набор слов», «торопливейшая и безграмотная мазня», «пошлость и беспардонная болтовня» – таковы типичные оценки его новых работ. [41]И дело здесь не только в падении его высокого покровителя, но и в духовном кризисе, постигшем поэта, который не умел приладиться к новому времени, к сталинщине. С конца 1935 года его вещи производят впечатление «усталого движения по инерции», в них чувствуется «вымученный оптимизм», «усталость и апатия». [42]Как далеко это от «Песни о встречном», где «радость поет, не скончая», от песни, запечатлевшей юношеские иллюзии и упрямую веру в правоту советского дела, обернувшуюся потом самообманом, самоослеплением!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
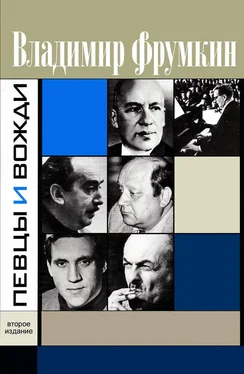





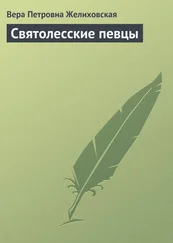



![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)