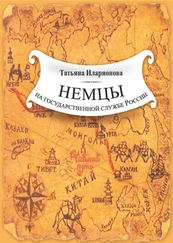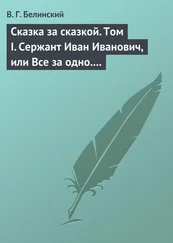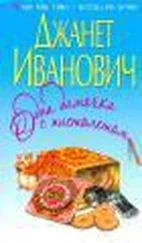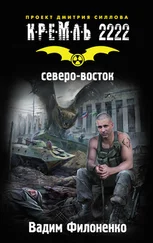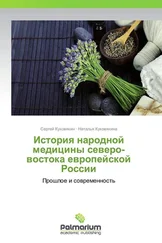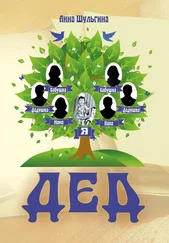По пути к новому району один из нас - я или Бойков - производил съемку, а другой нес наравне с чукчами груз. Съемщик задерживался у обнажений, делал записи и зарисовки, брал образцы пород и постоянно отставал. Время от времени его приходилось поджидать, носильщики сбрасывали груз, присаживались, курили. Я, на таких остановках, расспрашивал носильщиков о быте береговых чукчей и учился чукотскому языку - записывал и запоминал наиболее распространенные слова и простые вопросы ("Как называется река?”, "Далеко ли стоят люди?", "Как пройти?" и пр.).
Мы втянулись в работу и ближе ознакомились с местными условиями. Далеко не всюду тундра была такой негостеприимной, как в первые дни: не на чем было воды вскипятить. На многих участках встречались мхи и лишайники. Многочисленны и разнообразны были болота с широко развитой морозной трещиноватостью и, иногда, с вязкими грязевыми потоками. Русла некоторых рек были окаймлены густыми зарослями кустарников, а в распадках, закрытых от лютых северных ветров, росли небольшие рощицы полярной ивы, отдельные деревья которой достигали 4 - 5 метров в высоту. Мы научились выбирать места, где можно было быстро набрать топлива, чтобы изготовить пищу. Для этого годились многие мхи и лишайники, не говоря уже о кустах.
Мы поняли, насколько чукотская одежда, сшитая из нерпичьей кожи, удобнее и приспособленнее нашей, и переэкипировались. Особенно хороша была обувь, сшитая наподобие унтов. Лёгкая и абсолютно непромокаемая, она позволяла ходить по болотам, бродить по ручьям и неглубоким речкам всегда с сухими ногами. Правда, от долгого пребывания в воде обувь намокала, но не промокала, а высушенная становилась жесткой, и ее приходилось долго разминать, чтобы она приобрела прежнюю эластичность. Штаны и кухлянки до наступления холодов менее удобны - в них было жарко, особенно с грузом за плечами. Мы пользовались ими только в сырую погоду.
Вдали от морского побережья мы впервые столкнулись с чукчами-оленеводами - чаучу. В погожий августовский день мы шли к югу от полярной станции в сопровождении четырех носильщиков. Я нёс груз наравне с ними, а Бойков шел со съемкой. Погода была прекрасная, мы не очень торопились. Но к вечеру теплый юго-восточный ветер сменился холодным северо-западным. Появились облака. Чукчи с тревогой поглядывали на небо, переговаривались и ускоряли шаг. Я едва поспевал за ними - мы поднимались на водораздел к реке Этакунь - спросил, в чем дело?
- Пурга будет,- коротко отвечал Уутыгин, носильщик, знающий русский. - Надо торопиться к чаучу.
- К каким чаучу?
- Там,- кивнул он в направлении нашего пути,- в Этакунь, к Риттльхену.
За этим разговором мы поднялись на водораздел и увидели широченную долину Этакуни, рассыпавшееся по ней огромное стадо оленей и несколько яранг.
- Риттльхена олени, Риттльхена яранги, - сказал Уутыгин, - спать там надо.
Ветер усилился. Потемнело. Редкими хлопьями начал падать снег - первый в этом году. Это случилось 19 августа. Подошел Бойков. Мы заторопились, но до яранг оставалось несколько километров. Добрались до них только в сумерках. Носильщики провели нас в ярангу Риттльхена.
Посреди яранги горел костёр. Было дымно и с улицы темновато. У костра, на оленьих шкурах, сидели и пили чай несколько человек: бородатый старик, две женщины - пожилая и молодая с грудным ребенком - и два подростка.
Уутыгин обратился по-чукотски к старику, очевидно, представляя нас, так как тот поднялся с места, пригласил нас к огню, а пожилая женщина засуетилась по хозяйству.
- Садись чай пить! Чай пауркен! - сказал Уутыгин,- мы другой яранга пойдем,- и направился вместе с другими носильщиками к выходу.
Мы не стали их задерживать - всем здесь было явно тесновато. Я положил в сторонку свой рюкзак, достал из него захваченные на дорогу продукты поздоровался заученным недавно чукотским приветствием:
- Амани йетты! (здравствуйте).
- Йетты, йетты! - улыбнулся старик и что-то сказал по-чукотски, сопровождая слова выразительным жестом, приглашающим к огню.
Старик - это и был Риттльхен - мало походил на чукчу. Это был типичный русский мужик, переодетый в кухлянку, но русского языка ни он, ни его домашние не знали, и объясняться приходилось жестами.
Женщина пододвинула оленью постель - выделанную шкуру убитого зимой оленя, а когда мы с Бойковым сели - неожиданно стала снимать с нас обувь. Мы растерялись, запротестовали, но она все же стащила с нас унты и повесила их сушиться. Как мы вскоре убедились, обычай разувать остающихся на ночлег гостей прочно вошел в обычай здешних чаучу. Невзирая на наши протесты и сопротивление, женщины всегда нас разували, сушили мокрую обувь и разминали ее. Отучить их от этого мы не могли.
Читать дальше

![Николай Вирта - В одной стране - Заговор обреченных, Три года спустя [Пьесы]](/books/49737/nikolaj-virta-v-odnoj-strane-zagovor-obrechennyh-thumb.webp)