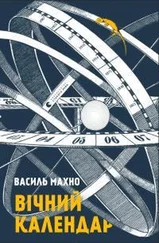В последний момент, когда рубашки и джинсы были упакованы, я бросил в сумку, предназначенную для ручного багажа, февральский номер «Нью-Йоркера», лондонское издание Рейнальдо Аренаса «Тот, кто поет в колодце» и переписку Ингеборг Бахман и Пауля Целана. Книга Рейнальдо – о детстве, о тяжелом воздухе детства, Бахман с Целаном – о любви и смерти любви. По сути, все об одном и том же. О воздухе, о любви и о ее смерти. Во время перелетов нужно как-то убивать время: сначала я летел в Киев, на три дня. Еще три дня решил посвятить Тернополю, а пять – приберег для Парижа. Ну не все же время рассматривать стюардесс или бродить по магазинам duty free?
Я летел в Украину после полугодичного перерыва.
Полгода – это примерно та доза, которой хватает, чтобы почувствовать потребность в новом путешествии. Именно полгода назад, насытившись Украиной, я так и не успел написать что-либо о Тернополе, Черновцах, Дрогобыче или Львове, между которыми мотался почти три недели. Наверное, потому, что среди моих планов было дописать другую книгу – «Вдоль океана на велосипеде» – сплошной нью-йоркский текст. С ним немного продвинулся, но не настолько, чтобы предлагать какому-нибудь издательству. Вот почему Украина, Галичина с Буковиной как-то отступили на задний план, а береговая линия, которая доходит с волнами к Си-Гейт, становилась моим главным текстом. Вообще, эта постоянная борьба Америки с Европой происходит по своим правилам, словно бой без победителей.
Тогда, полгода назад, в Украине сентябрьские поля ждали копания картошки. И они сопровождали меня вдоль дорог, просто неотступно за мной путешествовали. Не потому ли копание картошки на огородах или на участках вдоль железной дороги – заслоняло города, стихи Пауля Целана и прозу Бруно Шульца? Вообще, это переплетение жизни и метафизики, простого со сложным, мне нравилось, это напоминало прозу и стихи… Я понимал, глядя из окна поезда, что стихи Целана могут быть такими же простыми, как копание картошки вдоль железнодорожного полотна, или такими же прозрачными, как железнодорожник с флажком на переезде. Они могли быть такими же простыми, как черновицкие улицы. Как дом, где родился Целан, как ошибочно прикрепленная мемориальная доска (оказалось, что совсем не там и не в том месте). Как покосившийся рельеф Дрогобыча и метафизика прозы Шульца, которая непривычным образом высказывается запахом корицы, как вечные дожди Львова и голодное сердце Тернополя, точнее, мое голодное сердце, вмурованное в плотный тернопольский воздух, в кирпич его домов.
Все эти приближения и неточности составляют, по сути, все мое время в Украине.
2.
Год назад, в Тернополе, когда я читал в «БункереМуз», то даже не догадывался, что мой вечер заполнит воздух тридцатилетней давности . Придет – в платье и туфлях на высоких каблуках, что было почти вызовом джинсам и футболкам навыпуск.
Я смотрел на этот воздух, я касался глазами этих тонких черт, этого лица, преисполненного своего внутреннего совершенства. Не хотел его спугнуть или испачкать пылью своих нынешних стихов. Я подбирал, что читать и как читать. Вечер продолжался больше часа, и все это время воздух на высоких каблуках, эти предельно откровенные глаза следили за мной (я это чувствовал как физическое перевоплощение, как прикосновения глазами к глазам).
Потом меня окружили молодые студентки, после – несколько фотографов повели нас с женой в облезлую, но чудом сохранившуюся арку, чтобы выбрать наилучший ракурс для фотографий.
Высокие каблуки и платье вместе с воздухом тридцатилетней давности оставили нас, веселых и довольных.
Я думал, что навсегда.
Понимал, что этот почти безмолвный приход все же что-то значил.
3.
В скором поезде, который прорывался сквозь ночь, узловые станции и области Украины с востока на запад, я ехал в Тернополь. Поезд дергало, а на ночных станциях обходчики стучали по металлическим колесам. На перегонах я слышал разговоры диспетчеров. Пахло железной дорогой – такой знакомой с детства. Мне не спалось, и я, отодвинув фирменную занавеску, смотрел в окно. Пил чай. Поезд качало, качался мой остывший чай, качались станции и пассажиры. Примерно около пяти утра, когда осторожный свет приоткрыл туманы на полях и околицах сел, – я увидел, что зелень, словно дождь, тронула полевые обочины. Шел пар от озер и рек, темное серебро тумана грубыми нитками вплеталось в черные полосы дорог.
«Эта полевая зелень, – думал я, – лучшая метафора временности». И вспомнил помидоры в своем внутреннем дворике, которые, должно быть, уже окрепшими стеблями устремились вверх и зацвели желтым цветом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василь Махно Куры не летают [сборник] обложка книги](/books/30645/vasil-mahno-kury-ne-letayut-sbornik-cover.webp)
![Роберт Хайнлайн - Кукловоды. Дверь в Лето [сборник]](/books/28774/robert-hajnlajn-kuklovody-dver-v-leto-sbornik-thumb.webp)
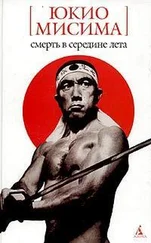

![Владимир Васильев - Чужие миры [ Авт. сборник]](/books/101329/vladimir-vasilev-chuzhie-miry-avt-sbornik-thumb.webp)






![Андрей Васильев - Осколки легенд. Том 1 [сборник рассказов] [СИ]](/books/390711/andrej-vasilev-oskolki-legend-tom-1-sbornik-ras-thumb.webp)