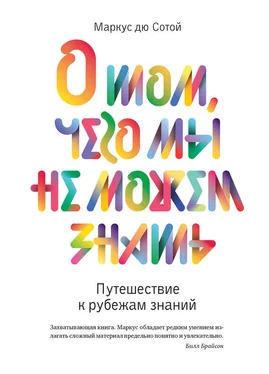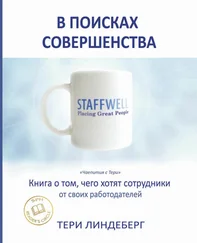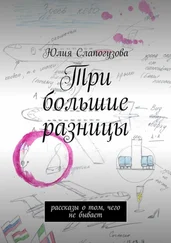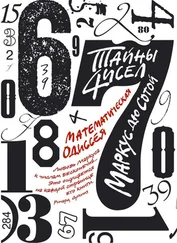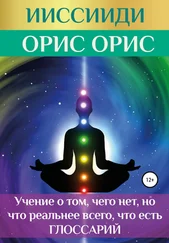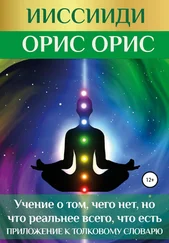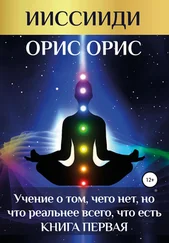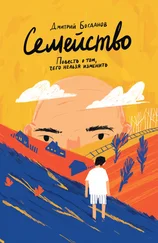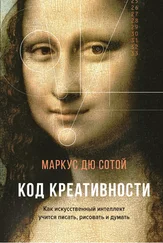Представим себе организм, не имеющий ни глаз, ни нейронов, способных регистрировать свет. Если у него нет никаких средств обнаружения электромагнитных волн, как он может разработать теорию электромагнетизма? Мы весьма успешно использовали сочетание своего зрения, позволяющего нам видеть некоторую часть электромагнитного спектра, с математическим анализом для вывода заключений о других областях этого спектра. А потом мы разработали приборы, способные обнаруживать такие волны и преобразовывать их в форму, которую мы можем интерпретировать. Но как бы мы смогли начать этот процесс, не имея доступа к некоторой части этого спектра, который дают нам органы зрения?
Вполне возможно, что ограниченность наших чувств также ограничивает возможности наших познаний в математике. Хотя вся математика существует только в уме, одна из научных школ полагает, что поскольку наш разум – это в конечном счете разум, воплощенный в теле, то знание, которое мы можем получить о математике, ограничено тем, что может быть физически воплощено. Безусловно, многое из того, что мы знаем о математике, происходит из описаний физического мира. Взять те же мнимые числа – казалось бы, какое у них может быть физическое воплощение? И тем не менее в конечном счете они происходят из измерений размеров геометрических фигур. Именно попытки понимания длины диагонали грани моей кубической игральной кости привели вавилонян к рассмотрению квадратного корня из 2. А уж оттуда началось путешествие, приведшее нас к идее квадратного корня из –1.
Некоторые поборники идеи искусственного разума утверждают, что для создания разума, сравнимого с нашим собственным, необходимо, чтобы он имел телесное воплощение. Другими словами, мозг, живущий исключительно внутри жесткого диска компьютера, не может породить разум, подобный нашему, без физического взаимодействия с миром через тело. Эта гипотеза снова бросает нам вызов. Могут ли в самом деле существовать некие части математического мира, до которых мы не сможем добраться, потому что они не вытекают из концепций, имеющих физическое воплощение?
И все же остается глубоко философский вопрос о том, насколько наши чувства позволяют нам точно знать что бы то ни было. Мы уже знаем, что наши чувства можно обмануть, заставить нас поверить в реальность вещей, которые на поверку оказываются иллюзией. Как, например, мы можем быть уверены в том, что Вселенная, которую мы воспринимаем, – не имитация? Как мы видели на шестом «рубеже», человеку можно внушить, что он находится в чужом теле. Так как же мы можем быть уверены, что мы – не мозги в банке, в которые компьютер закачивает искусственно созданную чувственную информацию, а окружающий нас мир – не подделка?
На такие попытки поставить под сомнение все то, что мы знаем, я могу ответить, что в этой книге я хотел исследовать, как мы можем узнать что-либо об этой имитации. Кант считал, что истинное устройство мира навсегда останется сокрытым от нашего взора. Мы можем познать лишь кажущееся его устройство. Мне кажется, что большинство ученых какое-то время читает об этом споре об онтологии и эпистемологии и слушает философов, выражающих сомнение в том, что наука рассказывает нам, как на самом деле устроен мир. А потом они возвращаются к своим исследованиям, думая, что, даже если мы никогда не сможем узнать, какова на самом деле реальность, нужно по меньшей мере попытаться выяснить, какова эта реальность в представлении наших органов чувств. В конце концов, именно это на нас и воздействует.
Поэтому, наверное, лучшее, что мы можем надеяться получить от науки, – это правдоподобное знание о Вселенной; то есть наука дает нам теорию, которая, по-видимому, описывает реальность. Мы считаем, что теория, которая позволяет истолковать наше восприятие мира, должна быть близка к истине, хотя философы и уверяют нас, что мы никогда не сможем знать наверняка. Как сказал Нильс Бор: «Неверно думать, что задача физики – в том, чтобы обнаружить, какова природа. Физика касается того, что мы можем сказать о природе».
Здесь водятся драконы [136]
Но как же насчет того, чего мы знать не можем? Если что-то не поддается научному исследованию, если оно непознаваемо, то, может быть, с таким непознаваемым лучше справится какая-то другая дисциплина? Вот, например, что говорит о вопросе «чего-то, а не ничего» Мартин Рис: «Важнейшая проблема сводится к вопросу о том, почему что-то вообще существует. Что вдыхает жизнь в уравнения и вызывает их воплощение в реальном космосе? Однако такие вопросы лежат вне пределов науки: они относятся к ведению философов или богословов».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу