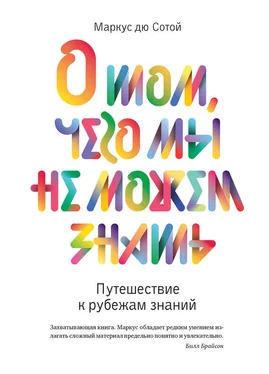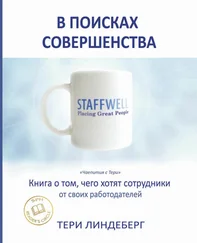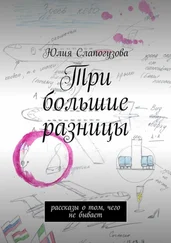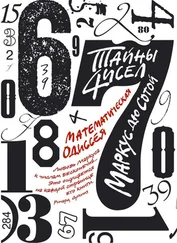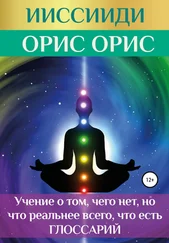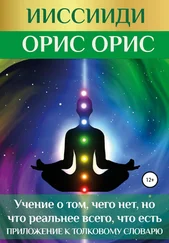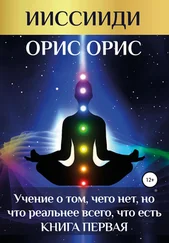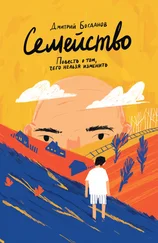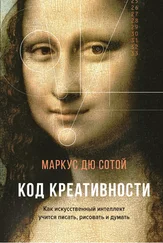От Уильямсона же я узнал о фантастическом логическом фокусе под названием «парадокс непознаваемости» [132], который доказывает, что если мы не знаем вообще всего, то некоторые истины всегда будут оставаться непознаваемыми по самой своей природе. Этот парадокс приписывают американскому логику Фредерику Фитчу, который опубликовал его в своей статье 1963 г. [133]. Фитч признавал, что исходным источником его рассуждения был на самом деле комментарий анонимного рецензента на его статью, которую Фитч пытался, но так и не смог опубликовать в 1945 г. Многие годы имя рецензента, создавшего эту логическую жемчужину, оставалось загадкой. Однако в результате последующих изысканий обнаружился рукописный экземпляр той самой рецензии, и анализ почерка показал, что ее автором был знаменитый американский логик Алонзо Чёрч, который внес большой вклад в понимание теоремы Гёделя о неполноте.
В рассуждении Чёрча есть отголосок той рекурсивной стратегии, которую использовал Гёдель, но на этот раз речь не идет о математике – только о чистой логике. И если Гёдель доказывает, что существуют математические истины, которые невозможно доказать в рамках конкретной непротиворечивой аксиоматической системы математики, Чёрч заходит на шаг дальше и провозглашает существование истины, которую невозможно познать вообще никакими средствами.
Предположим, что имеется истинное утверждение, об истинности которого мы не знаем. На самом деле таких утверждений множество. Например, мой дом полон игральных костей – в нем есть не только кость из казино, лежащая у меня на столе. Еще есть кости из игры «Монополия», игра «Лудо», кости, завалившиеся за диван, кости, закопанные в том беспорядке, который царит в комнатах моих детей. Я не знаю, четно или нечетно число игральных костей, имеющихся в моем доме. Разумеется, это утверждение само по себе не является неразрешимым вопросом, так как я могу систематически обыскать весь дом и узнать ответ на него. Но так же безусловно, в данный момент я этого ответа не знаю.
А теперь держитесь: каждый раз, когда я перечитываю этот фрагмент, у меня кружится голова. Пусть р – истинное утверждение, выбранное из следующих двух: «В моем доме имеется четное число игральных костей» и «В моем доме имеется нечетное число игральных костей». Я не знаю, какое из этих утверждений истинно, но одно из них должно быть истинным. И из существования непознанной истины можно извлечь существование истины непознаваемой. Непознаваемой истиной является следующее утверждение: «Утверждение р истинно, но неизвестно». Оно несомненно истинно. Почему оно непознаваемо? Потому что его познание означает знание того, что утверждение р истинно и неизвестно, но при этом возникает противоречие, так как утверждение р не может одновременно быть неизвестным и известным. Таким образом, само утверждение «Утверждение р истинно, но неизвестно» представляет собой непознаваемое утверждение. Утверждение р само по себе не является непознаваемым. Как я уже сказал, я могу разыскать все игральные кости, находящиеся в доме, и узнать, четно их количество или нечетно. А вот мета-утверждение «Утверждение р истинно, но неизвестно» непознаваемо. Это доказательство работает во всех случаях, в которых существует что-то истинное, но неизвестное. Единственный выход из этого тупика – уже знать все. Все истины могут быть познаваемы, только когда все истины известны.
Хотя это рассуждение стало известно под названием парадокса, никакого парадокса, как замечает Уильямсон, в нем не содержится. Это попросту доказательство существования непознаваемых истин. И после всех наших путешествий к пределам науки оказывается, что тот пробел, который мы искали, можно получить при помощи хитрого логического трюка.
Можем ли мы знать хоть что-нибудь?
Многие из специалистов по философии познания ставят под вопрос то, как много мы вообще можем знать о чем-нибудь. Шотландский философ XVIII в. Дэвид Юм распознал одну из тех фундаментальных проблем, с которыми мы сталкивались при рассмотрении наших вопросов: то, что мы заключены внутри системы. Пытаясь применить научные методы, чтобы установить, что мы что-то знаем, мы попадаем в замкнутый круг, потому что мы используем научные, логические аргументы для доказательства правомерности этих же самых методов. Рассмотреть их извне невозможно. Витгенштейн выразил это положение в более цветистой манере: «Выше задницы не нагадишь» [134].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу