«Царь не стал передавать Спарте или любому другому городу роль хранителя мира, простата. Он сам выступал единственным гарантом мира и самопровозглашенным лидером тех, кто сражался за перемирие… Тем не менее Персия выказывала готовность и желание признать за Спартой право на простасию , прежде всего в отношении тех условий, каковые требовали постоянного контроля и были необходимы для обеспечения интересов Спарты, однако впрямую не касались царя, так что последний не видел поводов вмешиваться лично… Спарта сумела едва ли не сполна воспользоваться условиями мира, еще до подписания договора. Причем цели, которые она преследовала, были, так сказать, обратного свойства. Она стремилась не допустить возрождения афинского империализма, лишить Фивы власти над Беотией и отобрать у Аргоса Коринф – то есть совершить все то, чего не удалось достичь в ходе Коринфской войны. В этом смысле, конечно, прав Ксенофонт: Спарта свела войну вничью и выиграла мир».
Райдер «Койне эйрен: общий мир и местная независимость в Древней Греции» (Oxford: Oxford University Press, 1965).
Большинство претензий к «царскому миру» касались условий автономии. См. рецензию Дж. Ларсена на книгу Райдера (Gnomon, 38, 1966):
«Райдер ссылается на судьбу греческих городов в Азии, а также на участь Лемноса, Имброса и Скироса, и тем не менее утверждает, что впервые автономия всех полисов… была признана договором, который одобрили ведущие государства Греции и персидский царь. Точнее сказать, всех полисов за исключением тех, кого более сильные желали иметь в подчинении… Следует предостеречь всякого, кто стремится идеализировать движение „автономов“, что в договоры порой включали пункт, который ограничивал применение свобод, провозглашенных договором. Это относится и к „царскому миру“, где, судя по всему, сначала перечислялись исключения, а уже затем говорилось об автономии».
См. критику Райдера в рецензии Р. Дж. Форреста (CR, 19/ 83, 1969):
«Что более важно, не получилось убедить народ (именно народ, а не политиков), что мир 387 г. позволял Спарте контролировать всю Элладу. Агесилай „человеку, который сказал, что лакедемоняне стали приверженцами персов… ответил: „А по-моему, скорее персы – лакедемонян“ (Плутарх), и с учетом спартанского поведения в последующие годы, „автономию“ и прочие громкие слова следует рассматривать как пустые лозунги; это же относится и койне эйрен“.»
Основные работы, посвященные Второму афинскому союзу: Ф. У. Маршалл «Второй афинский союз» (Cambridge: Cambridge University Press, 1905);) Д. Каргилл «Второй афинский союз: империя или свободный альянс?» (Gerkeley & LA: University of California Press, 1981). Относительная хронология Второго афинского союза и набега Сфродия является весьма спорной. Чаще всего считают – и настоящая работа придерживается этого мнения, – что Афины отреагировали на набег Сфродия образованием Второго афинского союза. В частности, так полагают Райдер, Р. К. Синклер, Р. Сили и Д. Каргилл.
Диодор 15, 28; см. Плутарх Пелопид 14, 1.
Каллистрат из Афидн предложил заменить термин «взносы» (syntaxeis) на «дань» (phoroi), если следовать Феопомпу (F Gr Hist 115 F98).
Для Фив это означало вступление в альянс, чьи стратегические интересы шли вразрез с их собственными. Баклер утверждает, что необходимость укрепляться ввиду спартанской агрессии перевешивала все прочие соображения фиванцев. Афинам и Фивам было достаточно общего врага. См. Дж. Баклер «Фиванская гегемония, 371–362 гг. до н. э.» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980). Он пишет: «Тем не менее военная поддержка Афин была столь важна для Фив, что вступление в федерацию виделось невысокой ценой… А вот после обеспечения безопасности разные цели и интересы двух полисов наверняка отдалят их друг от друга».
Подробное обсуждение пограничных укреплений Аттики см. в исследованиях Дж. Р. Маккреди, Дж. Обера и Марка Г. Манна. Инвестиции афинян в укрепления, вероятно, основывались на простом экономическом расчете. Виктор Хэнсон в рецензии на книгу Й. Брауэра и Г. Ван Тьюлла «Крепости, сражения и бомбы: военная история с позиций экономики» (Chicago: University of Chicago Press, 2008) пишет:
«Разве афиняне инвестировали в аттические крепости в IV веке до нашей эры потому, что это был наиболее экономичный способ защитить афинские территории, способ, менее затратный, чем содержание армии гоплитов, конницы, легко вооруженных стрелков или флота? Или, проиграв двадцатисемилетнюю Пелопоннесскую войну, они настолько пострадали от сухопутных вторжений, что строительство укреплений виделось им наилучшей тактикой против новых нашествий из Беотии и с Пелопоннеса?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
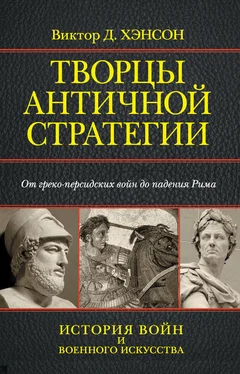





![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)





