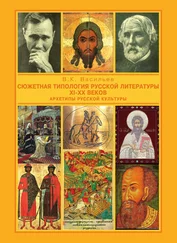– Я работаю с числами только на теоретическом уровне, – пропел речитативом Алекс.
В Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане мы были по три дня. Кучу времени провели на автостанциях, где Алекс заставлял меня и себя заниматься гимнастикой, «как немцы». «Мы зря тратим минуты!» – кричал он, пытаясь изображать немецкий акцент. Иногда автобусы оказывались заняты солдатами – в Кыргызстане шла война, – и тогда, даже если несколько мест в салоне оставались пустыми, мы все равно должны были ждать следующего.
– А нельзя ли нам тоже сесть в этот автобус? – однажды спросила я.
– Что? Вместе с солдатами? – воскликнул диспетчер. – Ха-ха-ха!
В Бухаре мы посетили кишащий павлинами дворец эмира. Некоторые комнаты оказались залиты цементом. «Здесь когда-то была консерватория, но Советы не хотели роялей». В киргизских горах мы ходили в термальные ванны, где в деревянных кабинках погружались в серную воду. Запах серы смешивался с тошнотворным сладким запахом варившегося на улице навоза. В Бишкеке мы катались на колесе обозрения, стоявшем на том месте, где якобы по воле Тамерлана должны были его похоронить. Но похоронили в итоге не там. Колесо возвышалось на абсолютно пустой площади, где кроха мальчишка с парой золотых зубов накручивал круги на велосипеде, а другой мальчишка – в сером костюме – расстреливал из игрушечного автомата одинокий куст.
Но самое сильное впечатление на меня произвел Самарканд с его заброшенным советским универмагом, с обсерваторией, где Улугбек в пятнадцатом веке нанес на карту координаты тысячи восемнадцати звезд, и с пустынным средневековым университетом. Мозаичные львы в Медресе Львов – полутигры, получасы – явно были выполнены человеком, который никогда не видел живого льва. Именно в Самарканде и похоронен Тамерлан – под шестифутовой нефритовой плитой, привезенной из китайского храма. Мне тогда еще в голову пришла мысль, что я, возможно, однажды вернусь сюда, когда не буду такой усталой, грязной и обалделой.
Вскоре после моего возвращения в Америку рубль рухнул. Обанкротились многие банки, включая «Менатеп». Рустем на все свои рубли накупил факсовых аппаратов и порой слал мне факсы, когда я подрабатывала редактором в одном крупном нью-йоркском издательстве. Потом поток факсов иссяк, а с ним и лето.
Вернувшись осенью в колледж, я стала изучать «русский Восток»: читала советскую реалистическую прозу узбекских и киргизских писателей, панславянские труды советских лингвистов, пантюркские труды турков-кемалистов, «кавказские» поэмы русских поэтов. Записалась на начальный курс узбекского, который вела Гульнара, аспирантка родом из Самарканда. Этот язык меня пленил, он казался мне более грубой, более наивной и более русской версией турецкого. Кемалисты заимствовали французские слова (для понятий вроде «поезд» или «ветчина»), а советские узбеки – русские. Я тогда наткнулась на книгу стэнфордского профессора Моники Гринлиф о Пушкине. Его путешествие в Арзрум на самом деле оказалось субституцией путешествия в Париж, город, о котором Пушкин мечтал всю жизнь («Через неделю буду в Париже непременно» – первая фраза одной из его незавершенных пьес), но который так никогда и не посетил.
Пушкинские странствия начались, когда его в двадцать один год за радикальные политические стихи выслали из Петербурга на гражданскую службу в город, который сегодня называется Днепропетровск. Там он познакомился с героем 1812 года генералом Раевским и провел с ним три месяца в поездках по Кавказу и Крыму, собирая материал для «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Затем его перевели в Молдову, потом – в Одессу, где он, отчаянно влюбившись в жену генерал-губернатора, участвовал в нескольких дуэлях и был вынужден оставить государственную службу. Тем временем тайная полиция перехватила письмо, где Пушкин упоминает, что в Одессе «берет уроки чистого афеизма» у глухого англичанина, убедительно опровергающего бессмертие души. Эти еретические строчки послужили поводом для ссылки в Псков.
В 1826 году новый царь Николай I позволил Пушкину вернуться в Москву и даже взял на себя цензурирование его работ. Царь, к сожалению, оказался весьма докучливым цензором. Хуже того, он поставил Пушкина под прямой надзор начальника тайной полиции графа Бенкендорфа, который должен был визировать все его поездки. (К этому моменту, замечает Гринлиф, «навзрыд оплакиваемая ссылка начала 1820-х годов» стала уже казаться Пушкину «воплощением свободных странствий».) Когда Бенкендорф в 1829 году отклонил прошение о поездке в Париж, Пушкин решил тайком пересечь турецкую границу. И Восток, который должен был олицетворять «открытые пространства приключений и личных воспоминаний», на деле оказался антонимом свободы, символом изгнания из центра мира, из Парижа, на самую бессмысленную периферию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
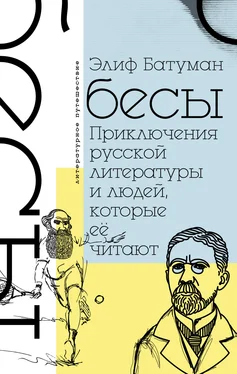

![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/413334/elif-batuman-idiot-litres-thumb.webp)