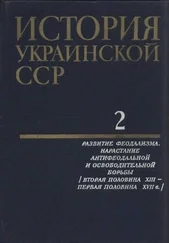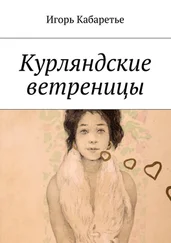– Нет, это не всё, и вам это вам прекрасно известно, так что я объявляю моё последнее условие. Ребёнок… Где он?
– Слово чести, мне об этом ничего не известно.
– Оставьте вашу честь отдыхать, и ответьте мне немедля и категорично. Где у мадам Крозон принимали роды?
– У акушерки, которая живёт наверху, на холме Монмартр, на улице Роз, насколько мне известно.
– И кому поручили заботу об этом ребёнке?
– Кормилице, которую мы долго искали, но след её был утерян, когда мы её почти обнаружили.
– В прошлую субботу, не правда ли?
– Нет, в воскресенье… мы наконец узнали, что она жила на улице Мобеж, почти в самом её конце… номер 219… и когда мы там объявились, оказалось, что она успела накануне переехать оттуда вместе со своим младенцем… но при этом никому не сказала, куда переезжает… и мы её не нашли.
– Её имя?
– Монье… хотя, очень даже вероятно, что это её не настоящая фамилия.
– Этого мне вполне достаточно! – воскликнул Нуантэль, удовлетворённый чёткостью ответов Ласко, ведь было очевидно, что латиноамериканский негодяй не лгал. – Итак, я полагаю, что теперь сделка между нами заключена. Как задаток, я ожидаю приглашение от мадам де Брезе. Когда я с ней встречусь, я ей ничего не скажу о том письме, что закрыло мне сегодня двери её дома и не буду больше заниматься вами, как будто вас не существует в этом мире, если только… вы не нарушите наши соглашения. В этом случае я буду безжалостен. Маркиза мне бесконечно нравится, но она не настолько вскружила мою голову, чтобы я потерял память. Я вроде бы всё сказал? Как вы отсюда выходите, доктор?
Сен-Труа поспешил открыть дверь салона, и капитан ушёл, бросив компаньонам-негодяям на прощание:
– Кстати, я вам рекомендую позаботиться о вашем пациенте-алкоголике. Этот грубиян и болтун может сыграть плохую шутку с вами.
Доктор промолчал и провел Нуантэля до прихожей, где негр в ливрее ожидал клиентов, после чего поспешил вернуться к Ласко, чтобы обсудить произошедшее.
Нуантэль с удовольствием вышел на улицу, и с радостью зажёг сигару, удовольствие, о котором известно только тем, кто вырывается из душного кабинета отдохнуть после дня, проведённого в праведных трудах. Он направился к улице Анжу бодрым шагом, с лёгким сердцем и живым разумом, восхищённый успешным началом своей военной кампании, и совершенно уверенный в таком же её удачном продолжении.
– Вот это хорошая работа, – сказал он сам себе, – и если Дарки не будет ею доволен, то это будет большой неблагодарностью с его стороны. Я сумел взять ситуацию под свой контроль, поскольку оба негодяя, которые шантажируют маркизу, теперь у меня в руках. Я сумел оставить их в неведении относительно того, что мне известно об этой их тайне, не сказав ни слова о преступлении в Опере. Они искренне полагают, что я влюблён в де Брезе… и возможно даже, что они решили, что я хочу на ней жениться, а я воспользовался своим влиянием на них, чтобы заставить этих заморских пройдох открыть передо мной двери замка маркизы. Они, несомненно, развяжут против меня тайную войну, я это знаю, но они не осмелятся атаковать меня явно. Если бы я пошёл напролом, если бы я их вынудил разоблачить маркизу… или, если бы я вынудил маркизу их атаковать, то я навредил бы положению Берты, а это значило бы, что я нанёс удар чересчур рано. У меня ещё нет достаточных доказательств их вины, но они у меня будут через неделю… или через месяц… они у меня точно появятся, а, тем временем, как мне кажется, мне удалось внести спокойствие в семью Крозона, и теперь я знаю, что мадемуазель Меркантур делала в свою первую бальную ночь, так что не остаётся ничего другого, кроме как отправится по следу кормилицы, и в ближайшие дни я смогу сказать матери, что её ребёнок устроен хорошо и безопасно. Да, всё это прекрасно, но нужно удобрять наш сад, как говорил Кандид 6 6 «Кандид, или Оптимизм» ( Candide, ou l’Optimisme ) – самое известное и читаемое произведение Вольтера.
, а наш сад, это маркиза.
Прошла неделя, целый век для тех, кто надеется и для тех, кто терпит. Гастон Дарки всё это время надеялся, а Берта Меркантур терпела и страдала, и гораздо больше духовно и нравственно, чем фыизически.
Берта, в своей тюрьме пребывает в полном неведении о происходящем на воле. Она молится, она плачет, она смотрит на скудный лоскут неба, который едва заметен через решётку её окна, и она думает о своей прежней приятной жизни, внезапно поставленной с ног на голову. Она думает о своей сестре, которая умрёт от боли, если только её муж не убьёт её раньше… она думает о мадам Камбри, её защитнице, которую она так полюбила за последнее время и которая теперь, возможно, отреклась от неё, потому что считает виновной в смерти другой женщины… она думает о Гастоне, который ей поклялся в вечной любви и, без сомнения, уже забыл о ней. Часы в тюремной камере проходят медленно и однообразно, не принося в жизнь бедной отшельницы ни дружеских воспоминаний, ни доброжелательных пожеланий, абсолютно ничего, никаких новостей из внешнего мира, куда она не возвратится больше никогда. Эта камера с грязно-серыми стенами стала её могилой. Снаружи сюда не проникает абсолютно никакой шум, ни один солнечный луч. Когда дверь камеры открывается, Берта видит в глубине тёмного коридора только сестёр Марию-Жозефу, в длинной шерстяной одежде, окутанных черно-голубым покрывалом, и шествующих величавой молчаливой походкой призраков. Три раза Берту выводили из камеры, чтобы отвезти во Дворец правосудия на ужасном скрипучем фиакре, три раза она сидела в кабинете судьи, всегда серьёзного, всегда бесстрастного. Её допрашивали вежливо, холодно, а она отвечала на все вопросы только слезами. Три раза Берта возвращалась в тюрьму в отчаянии. Она чувствовала себя потерянной, забытой и не ждала больше людской справедливости. У неё осталась вера только в Бога, читающего правду в человеческих сердцах.
Читать дальше