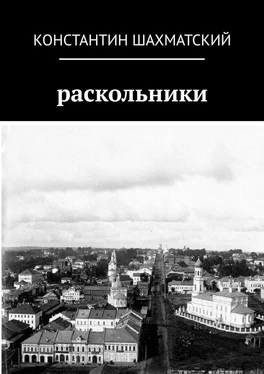– Ладно, – отступил Салтыков, отодвигая от себя недоеденное блюдо, – Давайте-ка завтра с допросами, на свежую голову…
– Так точно-с, – сухо ответил Дрейер и пошел прочь.
Почему городничий не осмелился возражать, Салтыков знал наверняка, поэтому не стеснялся в выражениях. Дело в том, что в прошлое свое посещение Сарапула в качестве проверяющего, губернский чиновник обнаружил небольшое, так сказать, разночтение, в делах винного пристава Владимирского. Не знамо почему, но за последнего вступился сам городничий и убедительно просил не давать делу огласки. Уж как он сумел убедить проверяющего – не имеет значения. Остался, однако, должен.
Поднявшись из-за стола, Салтыков добрел до кровати и рухнул на нее лицом вниз, тут же уснув без зазрений совести. На душевные терзания Фон-Дрейера ему было плевать. Точно так же, как и на все остальное.
Да пошли они к черту!
***
Придя домой, Густав Густавич украдкой пробрался в столовую, извлек из буфета графинчик, и присел за стол. Он был крайне расстроен нападками губернского чиновника, и оскорблен до глубины души. Оттого ему захотелось выпить и завершить с оппонентом незаконченный, как ему представлялось, диалог.
«Да что вы обо мне знаете, коллежский асессор! – говорил воображаемому визави городничий, – Вы еще в нежном возрасте пребывали, а я уже военную карьеру заканчивал. Из рядовых, можно сказать, выбился. И единственный смысл, который я для себя тогда вывел: служить дорогому Отечеству. И служил, представляете? Многие лета служил и получал поощрения… А вот у вас, господин Салтыков, награды имеются? Нет наград? Так что ж вы от меня требуете? Чтобы я вам кланялся? Чтобы сознался в каких-то там ошибках юности? А не дождетесь! Потому как не было этих ошибок, Михаил Евграфович. Ну, разве ж это ошибка: сказать в лицо командиру полка, что он подлец? Нет, не ошибка это, господин хороший, а нравственное убеждение! Но вам ли знать о существовании такого понятия. Лично вы, скольких товарищей предали и открестились от них, по собственному малодушию, а? Молчите. Сказать вам нечего. То-то же. И не надо передо мною бумажкой размахивать, петрашевец деланый. Думаете, я не знаю, за какие грехи вы сюда сосланы…»
В дальнем конце коридора мелькнул огонек и послышались шаркающие шаги. Матушка! – встрепенулся Дрейер, пряча меж колен хрустальный графинчик. В дверях появилась семидесятилетняя Гертруда Марковна: в ночном халате и мятом чепчике.
– Явился, – сказала матушка, поднимая над головою свечу.
– Да, – прошептал городничий, заслоняя рукой налитую рюмку.
– Да не прячь ты уже. Пей.
Гертруда Марковна поставила свечу перед Густавом, прошла к буфету, и достала из среднего ящика баночку с каплями.
– Забыла принять. Ох, опять сердечко пошаливает.
– Что ты, матушка. Вечером, наверное, понервничала, вот и пошаливает. Надо было почитать на ночь Слово Божие.
Гертруда Марковна вздохнула.
– Читала, да толку-то. Все за тебя, Густав, переживаю. Вот, например, чиновник, что прикатил. Настолько ли строг? Не придирается ли? Да много ли денег требует?
– Ах, ты об этом…
Старуха присела рядышком.
– Ведь недавно ревизор был. Ты ему тыщу рублей поднес. И вот, опять. Чего им всем надо-то?!
– Это другой, матушка. Он взяток не берет. Порядошный, – последнее слово Фон-Дрейер произнес с издевкою.
– Не может быть! – безапелляционно произнесла Гертруда, – Все берут, иначе жить на что?
– Я не беру, – потупился городничий, разглядывая на пальце наградной перстень.
– Дурак, – матушка ткнула Густава в бок, – Поэтому живем в долг. И всякий заезжий болван пользуется твоей мягкотелостью. А все потому, что не знаешь ты себе цену, дорогой мой. Вот назначил бы таксу, каждый и знал, что городничий Густав Густавич человек серьезный.
– Да не умею я взятки брать. Даже не знаю, какие суммы и по каким случаям требовать. А вдруг, запрошу больше, чем следует? Так меня и посадят в тюрьму …по доносу. Али меньше? Тогда какой смысл репутацию пачкать. Взятка – вопрос тонкой организации. На нее нюх нужен. Ну, не создан я для этого.
– Вот – вот, – покачала головой мать, – Сам и создаешь проблемы. На доходном, можно сказать, месте.
– Согласен, матушка.
Фон-Дрейер, наконец-таки, опрокинул рюмку и, задержав дыхание, выждал какое-то время.
Матушка, сидевшая рядом, грустно смотрела на него, держа на коленях руки. В ее взгляде читалось сочувствие и глубокое материнское сострадание к непутевому отпрыску. В это же время сухие пальцы ее левой руки, похожей на куриную лапку, сжимали пузырек с сердечными каплями, правой – перебирали тяжелые складки халата и подрагивали.
Читать дальше