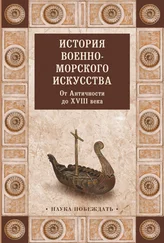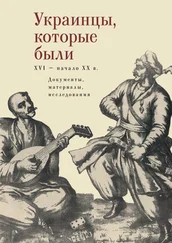И смотрите – уже поэты стихи слагают
о несчастье и горе; их песни – чернила,
а слезы – как воды,
что хотели сказать – умирает в устах,
на губах застывает,
с головы и до ног покрывают их нечистоты.
О, послушайте их! Они лепечут, как дети!
Со вчерашнего дня раздается напев их небесный!
Свои рифмы пустые плетут они, будто сети,
расправляя их над иерусалимскою бездной!
Как же сладко вам спится! Напевы звучат все нежнее,
колыбельные их безыскусны и неодолимы.
Но вчера здесь другой был поэт, чьи напевы сложнее,
он единственным был, кто взывал
в воротах Иерусалима.
Ночь… И где же те виноградники под небесами?
Вот затихли обманутые в колыбели,
поднялись к вершинам.
Ну а я здесь стою, по веленью закона,
у вас пред глазами,
и осколки пророчества моего, как осколки кувшина.
Вы все – поколение мертвых… Давно вы мертвы,
пусть даже нескоро в могилу уляжетесь вы.
«Я утром проснулся – а всюду кровь…»
Я утром проснулся – а всюду кровь.
Небо – в крови, и солнце – как кровь.
Кровь на одежде, на обуви кровь.
В Киеве будто проснулся сегодня я:
в воздухе кровь и в глазах преисподняя.
«Кровь!» – возглашает колокол громко,
будто бы в Киеве в дни погрома.
На Русском подворье евреев скопление —
будто бы киевский сброд в исступлении.
Кто здесь погромщик? Где здесь гонимый?
Киев смешался с Иерусалимом,
всюду проклятие, нет Откровения.
Как киевский сброд, кипятится еврей,
он возбужден, он взывает: эй-эй,
скованы братья железом цепей!
Иерусалим – будто Киев сегодня:
В воздухе кровь и в глазах преисподняя.
Зельда – литературный псевдоним Зельды Шнеерсон-Мишковски.
Зельда родилась в 1914 году в Екатеринославле. Ее отец был прямым потомком Ребе Цемаха Цедека. В 1925 году семья Зельды уехала в Палестину и поселилась в Иерусалиме.
Зельда закончила учительскую семинарию и работала преподавателем в религиозных школах в Иерусалиме и в Хайфе. Первая книга ее поэм была издана в 1967 году.
В творчестве Зельды сильны элементы хасидской мистики.
Ведь любая лилия —
остров мира
и покоя в тихой ночи,
в каждой лилии
птица живет из сапфира,
что зовется —
«перекуют мечи…»
И так близко сиянье,
так запах манит,
так тиха
застывшая листьев речь,
вот он, остров, —
лишь лодку возьми в тумане,
чтобы море огня пересечь.
Когда умру
и стану сущностью иною, —
отторгнется Кармель,
невидимый доселе —
тот сгусток счастья
из цветов, и туч, и хвои,
вошедших в плоть, —
от уходящего к прибою
бульвара с соснами
на видимом Кармеле.
От смертного ль во мне —
слияние с зарею?
А запах моря?
А туманы в тишине?
А миг, когда и здесь,
над этою горою,
неотвратимо, —
все равно меня накроет
Йерусалима взор —
от смертного ль во мне?
Колодец, сопровождавший евреев во время сорокалетних странствований по пустыне. Он появлялся рядом с тем местом, где делалась очередная остановка, а «задействовали» его вожди колен при помощи «Песни колодца»: «Колодец, который выкопали князья, который прорыли своими посохами благороднейшие из народа по приказу законодателя…»