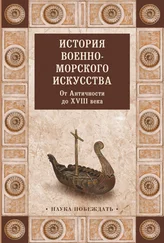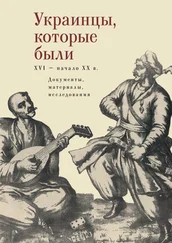Но слово «Йерушалаим» дохнуло с книжной страницы узнаванием. Вчитавшись в стихотворение, я поняла, что я там была – речь не о земном Иерусалиме, в котором мне довелось не только бывать, но и жить, имеется в виду то место Небес, которое описывает поэт. Иерусалим поднимает в ласковых ладонях на свои собственные Небеса довольно многих из тех, кто ступает на его Землю – и мне посчастливилось быть среди них.
Я узнала описание своего Иерусалима и взяла в руки чистый лист, чтобы написать на нем свой комментарий-перевод…
Мири Яникова
Как осколки пророчества,
дни мои раскалены,
и меж ними тело мое, как брусок металла,
и стоит надо мною мой Бог-кузнец,
и молотом бьет,
и раскрыто ему все, что время на мне начертало,
и обузданный пламень искры секунд отдает.
Мне начертан сей путь,
и до вечера я под судом,
но когда я вернусь
и избитое тело брошу на ложе,
как открытою раною, заговорю я устами,
и нагим обращусь я к Богу:
посмотри, ты измучен трудом,
так давай отдохнем – мы оба устали.
Будто женщина, знающая, что я околдован ею,
Бог с усмешкой предложит: «Попробуй сбежать!»
Только мне не удастся сбежать.
Я в отчаянном гневе сбегал безоглядно,
и как уголь шипящий, была моя клятва:
«Не хочу Его видеть вовек!»
Я к Нему возвращаюсь,
в Его двери стучусь со всех сил,
как отчаявшийся влюбленный,
что посланье любви получил.
Боясь отыскать Его, я с фонарем
в такие глубины сознанья забрел,
но вот – все цвета Его царства горят,
а я – как шахтер, обнаруживший клад.
Я счастлив, что столько простора во мне,
что есть небеса, и созвездия в ряд,
и глаз Его – отсвет луны в глубине.
В начале отчаянье было безбрежным:
хоть мной побежден – но в руках меня держит,
как первоматерию, Бог.
И вот выпадает мне срок
внимать Ему, волю забывши свою,
стать только лишь глиной в огромных руках.
Пронизанный Светом, стою перед Ним,
и вижу Его проявлений огни
на этом краю.
Всех родных мне душой и по крови родных —
время спрятало их.
И уже не прижаться к родимой руке,
не заплакать в тоске.
И смертельным ознобом в крови отдает
очищенье мое.
И тогда Тебя вспомню, Отец мой живой,
что в крови и в земле,
сквозь закрытые веки – стоишь предо мной,
волевое реченье, пронзительный слог —
Боже мой!
О, мой Бог!
Человек урожаем богатым владел,
а сегодня подобен пустой борозде,
говорит в нем уснувшая кровь.
Еще не было здесь облаков, еще солнце палило,
и сравнялись разумом люди с детьми, что груди сосали,
и тогда мне было пророчество о великой печали:
тучи над Иерусалимом!
И поэты еще слагали стихи об оленях
и о гроздьях звезд в виноградниках поднебесных,
ну а мне пророчество было о днях гонений,
когда мы обнаружим, что воды несут нас,
как листья, в бездну.
Так откуда же это знание мне досталось?
Если чья-то душа разорвана в трауре и кровоточит,
в ней тогда открывается этого знанья источник.
И пророчество билось во мне, и ключом прорывалось.
И сухие губы издали вопль того, кто погублен,
и того, кто остался в живых единственным после боя,
и чье сердце упало внутрь раскаленным углем,
что останется тлеть, даже если все реки его омоют.
И когда спасенья от жажды искал я в колодцах братьев,
зачерпнули в одном из ключей, и затем повернулись
они к морю; тогда луна на небо взобралась,
золотые блики с нее упали, волны коснулись.
Вот то горе, несчастье, что мне в виденье предстало!
Вот несут на носилках мертвых неисчислимых!
Есть ли такая беда, что еще не пришла, не настала,
не об этом вопил ли я в уши Иерусалима?
Вот и беженцев лежбище – будто грибное царство,
на краю селений – прах плодов непригодных,
вот позор молодых, что вдруг превратились в старцев,
тени тех сухих тель-авивских деревьев бесплодных.
Нет спасенья. Одна безысходность вокруг и изгнанье.
Пусть изгнанье теперь не на Западе, а в Сионе,
но на Западе нас донимали лишь христиане,
а отсюда еще и ислам вместе с ними нас гонит.
Читать дальше