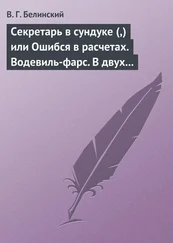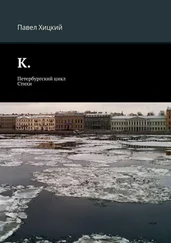Я пару раз видел, как они бредут по улицам, прикрывая лица от холодного солоноватого ветра, втягивают головы в плечи, точно птенцы, и по-детски беззащитно держатся за руки: короткопалая ручка Тильды в красно-желтой вязаной перчатке прячется за длинными, тонкими когтями мужского запястья. Лева, заметив меня, приветливо махал свободной левой рукой. Тильда стеснялась и кокетливо склоняла голову еще ниже.
Зима только начиналась: снег лежал не серый, а бледно-желтый. И чем дольше он лежал – тем больше желтел. Серо-зеленые фасады, сквозь которые протискивались влюбленные, походили на бочкообразные буквы, составлявшие слова и фразы на древнем, вымершем языке. Город походил на мокрую книгу со слипшимися страницами – но в какой бы его части ни оказывались Лева и Тильда, фасады источали молоко и мед.
Один раз я присутствовал при свидании. Случайно. Лева и Тильда договорились встретиться в белом кафе на Гороховой, а я припозднился с уходом оттуда и успел заметить, как Тильда, хлопая стеклянной дверью, вбегает в зал. Нервно сжимает руки перед животом, оглядывается в поисках Левы. Наконец, видит его в углу, у окна – и в ее глазах загорается пожар, сжигавший древние города. Лева тоже замечает Тильду и неловко машет рукой, едва не сбивая рукавом потертого пиджачка чайную чашку. Он смотрит только на нее: на неопределенного цвета пуховичок, на бледное лицо, на котором зимой почти не осталось веснушек, и вещи вокруг, белые столы и стены сгорают, оставляя вместо себя серые пустоты. Мир исчезает, как будто его никогда не существовало. Остается одна только девушка с неправильным именем. Одна Тильда.
И еще – вещь, которая изумила меня не меньше, чем когда я увидел Леву и Тильду в первый раз. Речь. Уже выйдя на улицу, сквозь дверь, я видел, как они подхватывают фразы друг друга. Так воробьи на линиях Васильевского острова отбирают друг у друга хлебные крошки – жадно и неожиданно. И смех. Постоянный смех, как на детской площадке у богатого дома, в котором живут счастливые молодые родители.
Счастливые молодые люди – и во всем городе только я, увидев Леву и Тильду во время свидания, в десятый раз сказал себе, что есть в их взаимном пожаре что-то неправильное. Всполохи слишком складные, огонь слишком ровный и обтекаемый. Между ними был не лесной пожар, а раздуваемый вручную, каминный.
С середины декабря Лева зачастил к Тильде домой, в ее квартиру на Невском. Не знаю, каким непостижимым образом бедная, часто голодная Тильда оказалась обладательницей этой квартиры; в здешнем городе подобные несуразицы случаются часто. Я слышал Левины рассказы про лепнину, паркет – и книжные полки. Огромные полупустые шкафы, которые заслоняли стены в обеих комнатах и, если смотреть сверху, через потолок, образовывали непонятный узор, напоминающий лист венериной мухоловки. Понемногу снося книги к букинисту, Тильда как будто освобождалась от стянутого вокруг нее бумажного растительного желудка, разрушала опасный, плотоядный книжный узор, справиться с которым разом смогла бы разве что питающаяся насекомыми птица.
Но Тильда выбрала не ту птицу. Лева с упорством, достойным влюбленного неофита, плел вокруг нее собственный книжный узор. Они часто встречались, но Лева с завидным упорством продолжал слать ей любовные послания. Тильда больше не отвечала (зачем, если они и так без конца разговаривают), а Лева написал ей второе письмо, потом третье, четвертое. Как и раньше, он оставлял их у бородатого букиниста, но прежде – трепетно показывал мне. Я смотрел на Левины письма с ужасом, потому что видел: с каждым разом у Левы выходит все лучше. Он учился клевать буквы, как птенец кормится мошкарой. Сначала несмело, неуверенно. Потом – почти автоматически, не замечая, что перед ним пища.
Лева не выводил на бумаге ничего особенного. Он описывал день, заново пересказывал Тильде все, что происходило на свиданиях. Но на бумаге выходило совсем иначе, чем в жизни. Грязные фасады и желтый снег на тротуарах, в который проваливались влюбленные, превращался в изящные красивые улицы. Серая кашица облаков расступалась, чтобы выпустить солнце. Памятники становились молодыми и сияющими, а не позеленевшими, какими видел их я. А Тильда – разумеется, она была единственной девушкой на земле, красавицей, перед которой расступались великие призраки. Лева как будто подправлял существующие буквы, так, что они выходили нездешними, переводными. Город расцветал, точно под взглядом счастливого заезжего иностранца, неожиданно встретившего на финских болотах бледную северную любовь.
Читать дальше