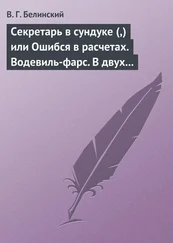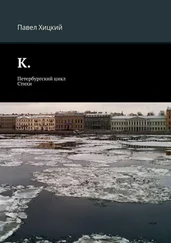Она совершенно не походила на моего молодого человека. Нос картошкой, веснушки. Невысокая, изогнутая внутри своего сизого пуховичка, как титло. Может быть, она тоже чем-то напоминала птицу – только совсем из другого полушария. В ней виделось что-то неуловимо страусиное. В наклоне головы, в быстрой походке… Хотя нет. Девушка не напоминала птицу. Она походила именно что на диакритический знак.
Они столкнулись нос к носу. Прямо в дверях. Парень неловко взмахнул полой пальто, и из рук девушки вылетела потрепанная книга, вероятно принесенная букинисту. Он рванулся подбирать книгу, запутался в пальто, чуть не упал, протянул девушке том – и оцепенел. Птица заметила, что перед ней диакритический знак. Знак смущенно улыбался и как будто подмигивал птице.
Я заметил, что у молодых людей одинаковые глаза. Карие, с золотистыми прожилками. Четыре глаза, в которых играет удивленный желто-белый огонь. И самое невероятное: у парочки начался разговор. Это меня больше всего удивило. Обычно в моменты случайных неловких встреч слова прерываются. Люди говорят друг другу «простите», «здравствуйте» – а дальше возникает пауза, во время которой человек успевает опомниться и уйти. Но здесь – слово за слово, сумбурная, сбивчивая речь о книге, название которой я так и не разглядел, о бородатом карлике, что стоит за прилавком в лавочке, об их смешных именах: Тильда и Лева.
Только спустя десять минут девушка неожиданно вспомнила о чем-то, хлопнула себя по руке с часами, виновато улыбнулась – и распрощалась. Она так и не зашла в лавочку. Как была, с книгой в руках, Тильда повернулась, будто очертила циркулем полукружие, немного подалась назад – и пошла по Литейному в сторону набережной. Лева остался стоять у двери с открытым ртом. Если бы он вправду был птицей, я сказал бы, что он щелкает клювом. Лоб над очками покраснел и, казалось, на нем появился пот. Хотя какой пот в промозглую ноябрьскую погоду, когда лужи затягиваются безжизненным серым льдом, а лица вытягиваются от ветра и закручиваются в черно-белые типографские полосы.
Я подошел к Леве, дал ему белый бумажный платок, чтобы он вытер лицо. Он взял его смущенно, но с благодарностью. Между нами возникло какое-то подобие мимолетного доверия, какое бывает, когда один человек растерян и ищет помощи у другого.
– И что мне теперь с этим делать? – проскрипел, скорее самому себе, Лева.
– Для начала выпить горячего чаю. Вы продрогли, – ответил я.
Я ожидал, что Лева откажется, уйдет, и я больше никогда его не увижу. Но он слегка задумался, махнул лохматой птичьей головой и согласился на мою компанию. Мы дошли до ближайшего кафе, где взяли по чашке дымящего чая. На две коричневые поверхности, видневшиеся чуть ниже керамических кромок, падал бело-желтый свет из окна. В чае мерцали огоньки, похожие на те, что я заметил в глазах Левы и Тильды.
Лева принялся рассказывать о себе. Сначала односложно и неохотно, потом – все живее и многословнее. Он пишет диссертацию по чему-то древнему, то ли хеттам, то ли аккадцам. По политическим взглядам, разумеется, либерал. Лет через пять после моей истории, когда в Петербурге началась история с белыми лентами, я не раз видел Леву на Исаакиевской площади. Он стоял в стороне от толпы, воодушевленный, радостный и нахохлившийся.
Лева почти никогда не спрашивал про меня. Я соврал ему – кажется, сказал, что я актер и интересуюсь разными людьми в силу профессии. Лева поверил. В его растерянном состоянии было не мудрено поверить во что угодно. К примеру в то, что я укротитель восточных змей или продавец золоченых колокольчиков. Лева почти не слушал и говорил отстраненно, как из-за пачки бумаги. Я видел: неразрешенная мысль шевелится за коричневыми зрачками, спрятавшимися за толстые стекла простецких роговых очков.
Наконец, он прервал на середине очередную ничего не значившую фразу, всплеснул тонкими руками, слегка задев белую чашку (отблески на поверхности заиграли, как огни пожара 1837 года), и решительно сказал:
– Я напишу ей письмо.
Я не стал возражать. Письмо – так письмо. Но потом, когда я спросил, что же Лева напишет, стало ясно, что дело дрянь. Он собрался объясниться Тильде в любви по всем правилам: рассказать ей про бессонницу (после случайной встречи он уже предсказывал себе бессонницу), упомянуть про лист бумаги, случайно найденный у окна, и закончить письмо словами «вечно твой, Лева» – в духе желтого дворянина, выписавшего лучшие в этом городе образы извращенцев и убийц.
Читать дальше