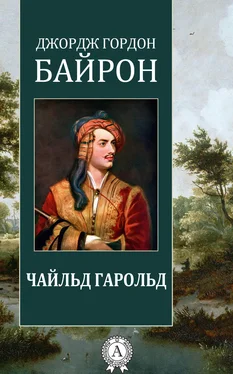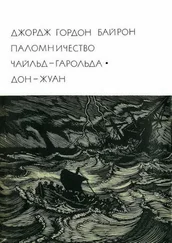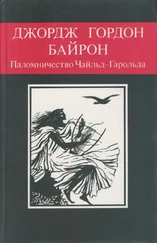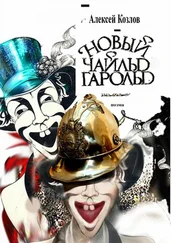«Мы все можем чувствовать или представить себе сожаление при виде развалил городов, бывших некогда столицами царств; вызываемые подобным зрелищем размышления слишком общеизвестно и не нуждаются в повторении. Но ничтожество человека и суетность наилучших его добродетелей, каковы восторженная любовь к родине и мужество при ея защите, никогда не обнаруживаются с такою очевидностью, как при воспоминании о том, чем были Афины и что представляют оне теперь. Эта арена споров между могущественными партиями, борьбы ораторов, возвышения и низложения тиранов, триумфа и казни полководцев, сделалась теперь местом мелких интриг и постоянных раздоров между спорящими агентами известной части британской знати и дворянства. «Шакалы, совы и змеи в развалинах Вавилона», наверное, менее позорны, чем подобные обитатели. Для турок-завоевателей находится оправдание в их деспотизме, а греки были только жертвою военной неудачи, которая может постигнуть даже самых храбрых; но насколько низко упали сильные люди, если двое живописцев оспаривают друг у друга привилегию грабить Парфенон и торжествуют поочередно, смотря по содержанию следующих друг за другом султанских фирманов! Сулла мог только наказать Афины, Филипп – завоевать их, Ксеркс – предать огню; а жалким антиквариям и их презренным агентам суждено было сделать Афины заслуживающими такого же презрения, как они сами и их искания. Парфенон до его разрушения во время венецианской осады был храмом, церковью, мечетью {Парфенон был обращен в церковь в VI столетии Юстинианом и посвящен Премудрости Божией. Около 1160 г. церковь обращена была в мечеть. После осады 1087 г. турки построили в прежней ограде мечеть меньшего размера.}. В каждой из этих стадий он был предметом уважения; его поклонники менялись, но он не переставал быть местом поклонения; он трижды был посвящен божеству и его осквернение есть тройное святотатство. Но —
…. гордый человек,
Облекшись незначительною властью,
Так начинает вольничать пред Небом,
Что ангелы готовы плакать.
Шекспир, Мера за меру, II, 2)».
(Прим. Байрона).
В рукописи находится следующее примечание Байрона к этой и пяти дальнейшим строфам, приготовленное для печати, но затем отброшенное – «из опасения», говорит поэт, «как бы оно не показалось скорее нападением на религию, чем ее защитою».
«В нынешний святошеский век, когда пуританин и священник поменялись местами, и злополучному католику приходится нести на себе «грехи отцов» даже в поколениях, далеко выходящих за указанные Писанием пределы, мнения, высказанные в этих строфах, будут, конечно, встречены презрительным осуждением. Но следует иметь в виду, что эти мысли внушены грустным, а не насмешливым скептицизмом; тот, кто видел, как греческие и мусульманские суеверия борются между собою за господство над прежними святилищами многобожия, тот, кто наблюдал собственных фарисеев, благодарящих Бога за то, что они не похожи на мытарей и грешников, и фарисеев испанских, которые ненавидят еретиков, пришедших к ним на помощь в нужде, вот окажется в довольно затруднительном положении и поневоле начнет думать, что так как правым может быть только один из них, то, значит, большинство неправо. Что касается нравственности и влияния религии на человечество, то по всем историческим свидетельствам оказывается, что влияние это выразилось не столько усилением любви к ближнему, сколько распространением сердечной христианской ненависти к сектантам и схизматикам. Турки и квакеры отличаются наибольшею терпимостью: если только «неверный» платит турку дань, – то он может молиться, как, когда и где угодно; мягкие правила и благочестивое поведение квакеров делают их жизнь лучшим комментарием к Нагорной Проповеди».
«Греки не всегда сожигали своих покойников; в частности старший Аякс был похоронен в неприкосновенном виде. Почти все вожди после своей смерти становились божествами, и тот из них находился в пренебрежении, у могилы которого не было ежегодных игр или празднеств, устраиваемых в его честь его соотечественниками. Такие торжества бывали в честь Ахилла, Бразида и др. и, наконец, даже в честь Антиноя, смерть которого была столь же славною, насколько его жизнь была недостойна героя». (Прим. Байрона).
По мнению Далласа, эта строфа написана была под впечатлением полученного Байроном известия о смерти его кембриджского друга Эддльстона. «Это был», говорит Байрон, «в течение четырех месяцев шестой из числа друзей и родных, утраченных мною с мая по конец августа». Однако же, в письме к Далласу от 14 октября 1811 г., посылая эту строфу, Байрон заметил: «Считаю уместным сказать, что здесь заключается намек на одно событие, случившееся после моего приезда сюда (в Ньюстэд), а не на смерть одного из моих друзей мужского пола». При другом письме к тому же Далласу, от 31 октября 1811, поэт приложил «несколько куплетов» (вероятно – стихотворение «К Тирзе»), помеченных 11-м октября, и прибавил, что «они касаются смерти одной особы, имя которой вам чуждо, а следовательно и не может быт интересно… Они относятся к тому же лицу, о котором я упомянул во II песне и в заключение моей поэмы». Таким образом, по указанию самого Байрона, строфа IX находится в связи с ХСV и ХСVІ, и все эти строфы имеют связь с группою стихотворений, посвященных «Тирзе». Более определенных сведений об этом предмете в литературе не имеется.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу