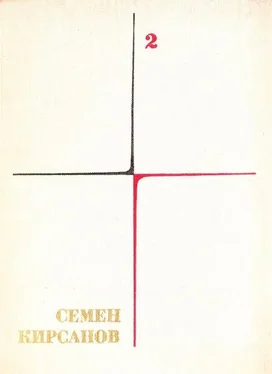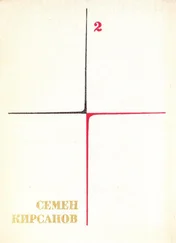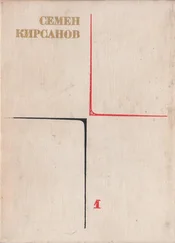Тут выходит
фармацевт:
— Покажи-ка мне
рецепт!..
Не волнуйся, мальчик,
даром —
тут проделки
Скипидара!
Я ему сейчас
воздам.
Марш по местам!
Банки стали
тихими,
скрежеща
от муки,
тут часы
затикали,
зажужжали
мухи.
Добрый дядя
фармацевт
проверяет
рецепт,
ходит,
ищет,
спину горбит,
там возьмет он
снежный корпий,
там по баночке
колотит,
выбирает
йод,
коллодий,
завернул
в бумагу
бинт,
ни упреков,
ни обид,
и на дядю
Сеня,
глядя,
думал:
«Настоящий дядя!
Старый,
а не робкий…»
Вот так счастье!
Вот веселье!
Фармацевт подносит
Сене
две больших коробки…
11
Глава главная.
Может,
утро проворонишь,
минет час
восьмой,
и на лапки,
как звереныш,
стал
будильник мой.
Грудь часов
пружинка давит,
ход колесный тих.
Сердце
Рики-Тики-Тави
у часов моих.
На исходе
сна и ночи
к утру и концу
с дорогой,
пахучей ношей
Сеня мчит к отцу.
С синим звоном
склянок дивных,
обгоняя тень,
но уже
поет будильник,
бьет будильник день.
Но сквозь пальцы
льется кальций,
льется, льется йод,
а будильник: —
Просыпайся!
Сеня!
День! —
поет.
Пронести б
коробки к дому!
(Льется йод из дыр.)
А будильник
бьется громом,
дробью, дрожью —
ддрррр!
Вот и завтра,
вот и завтра,
Сеня,
вот и явь!
Вот и чайник
паром задран,
медью засияв.
Вот у примуса
мамаша,
снегом
двор одет,
и яичницы
ромашка
на сковороде.
И звенит,
звенит будильник,
и мяучит кот:
— Ты сегодня
именинник,
Двадцать Первый Год! —
Видит Сеня —
та же сырость
в комнатной тиши,
видит Сеня:
— Я же вырос,
я же стал большим.
Все на том же,
том же месте,
только я
не тот,
стукнул мой
красноармейский
Двадцать Первый Год. —
Сказка ложь,
и ночь туманна,
ясен
ствол ружья…
— Ну, пора!
В дорогу, мама,
сына снаряжай!
Поцелуй
бойца Семена
в моложавый ус,
положи
в кошель ременный
хлеба
теплый кус.
В хлопьях,
в светлом снежном блеске —
ухожу в поход,
в молодой,
красноармейский
Двадцать Первый Год!
Глава первая
Золушка была бедна,
Золушка жила одна,
корка на воде горька…
Мачеха была карга,
отчим — скупой и злой.
Золушка была бледна,
платьице из рядна,
выпачканное золой.
Золушкины сестры сводные
жили веселые, жили свободные.
Вороными качали челками,
шили платья — пчелиный пух,
и на плечиках плюшем шелковым
лопухом раздувался пуф.
А у Золушки
ни ниточки,
ни кутка, ни лоскутка,
из протертого в сито ситчика
светит яблоко локотка.
Ничего,
кроме глаз тепло-карих да рук,
ни кольца, ни серьги даровой,
ни иголки заштопать дыру,
ни чулка, хотя бы с дырой!
Ничего у нее:
ни червонца в платке,
ничегосподи нет в ларце,
ничевоблы у ней в лотке,
ничевоспинки на лице…
Только золото тянется вдоль ушка,
из сиянья плетеное кружевце…
На дорогу выходит Золушка,
кличет уток — и утки слушаются.
Воробьи по-немецки кричат: «Цурюк!» —
и находками мелкими делятся,
черный уголь от ласк Замарашкиных рук
самородком горящим делается.
И в саду на шесте
деревянный ларец,
и в ларце
чистит клюв
оловянный скворец.
Он личинок ловец, говорун и певец
и недолго живет на шесте, на гвозде;
как махнет за моря Замарашкин скворец,
навезет новостей, новостей, новостей!
Нарасскажет того, чего глаз не видал:
где какая земля, где какая вода…
Размечтается Зойка над жестью ведра,
и слезинка у карего глаза видна.
А из комнат высоких доносится зов,
будто грохнулась об пол вьюшка:
— Да огло… да оглохла ты, что ли, Зо-о…
запропастилась, дрянь… лу-ушка!
У шкафа дубовосводчатого,
у зеркала семистворчатого
примеряют сестры лифчики,
мажут кремами свои личики.
И, как шуба, распахнут тяжелый шкаф,
где качаются платья-весы,
сестры злятся и топают:
— Золушка!
Шпильку дай, булавку неси!
Положи на личико
ланолинчика!
Входит отчим,
осанистый очень,
в сюртуке — английский товар,
он усами усат,
любит волос кусать —
черновязкий фиксатуар.
Отчим шубу берет из дубовых берлог,
и перчатками лапищи сужены,
раззвенелся на белом жилете брелок,
на жене — разблестелись жемчужины.
Читать дальше