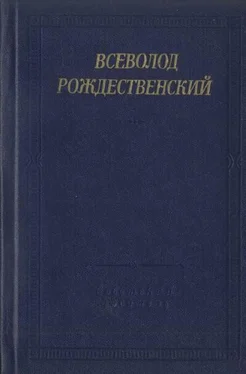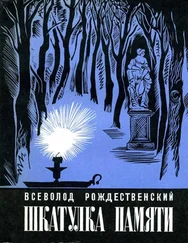Фонтан — это взятый в плен источник
из каменных расщелин, из пещеры,
из озера лесного, заключенный
в железных трубах городских бассейнов.
Там где-то травы тщетно просят влаги,
а здесь фонтаны рушатся в бетон
и разбивают грудь свою на брызги,
томясь извечно жаждою свободы.
Они шуршат, они печально стонут,
и радуга в их струях преломилась,
подобная изогнутому луку.
Фонтаны — это пленные ручьи,
они тоскуют по росистым веткам,
по небу в грозовых летящих тучах,
по зорям, отраженным в их воде,
и по оленю на скалистых кручах.
Они поили и кусты, и травы,
и путников, жарою истомленных,
они в своем потоке увлекали
осеннюю листву и отводили
от леса руку ночи ледяной.
Теперь, стесненные трубою ржавой,
они рокочут гневно в пыльных скверах
и горестно дробят себя в неволе
на брызги безысходной горькой доли.
И го́рода усталые глаза,
его вспотевшее в жару лицо
кропят прохладной пылью на мгновенье,
ломаясь о бетонную ограду.
Они всегда в плену, и только ночью,
когда их закрывают на покой
садовники иль сторожа бассейнов,
им слышно, как поют в горах их братья.
Но в час дневной, любимцы горных круч,
они сквозь горло и сквозь зубы труб
со свистом прорываются и рушат
свой тяжкий столб о грани стертых плит.
Кто видел за решеткой зоосада
тоску тигриных глаз в тревоге неустанной,
тот знает неизбывную печаль
и этих пленных городских фонтанов.
На раскаленный падая асфальт,
они, ветвясь, прохладу распыляют,
и брызги их подобны тем слезам,
что горе всем несчастным посылает.
Асфальт молчит, — он мертв, он безответен.
Но кто не понял бы оцепененья
воды остановившейся, пленённой
и запертой в своей бетонной чаше?
Так замерзает молодость воды,
затиснутая в узость ржавых труб.
Фонтан тоскует о полете в небо,
но к высоте протянутую руку
всегда ломает кто-то, и она
бессильно падает, дробясь о камень.
Он помнит горы — все в изломах молний,
а здесь, над городом, заря томится
и жаждет влаги, а сухие травы
о свежести тоскуют дождевой.
Струя уже разломана, когда
со свистом прорывается сквозь зубы
и пасть окаменевшей львиной маски.
Фонтаны жаждут вольного паденья
с отвесных скал, у своего истока.
<1967>
Над слезами, над грозами детства,
каменным домиком,
горной тропинкой
шелестит и ветвями тянется
дуб с потрескавшейся корою;
долго рос он,
чтоб закрыть вершиною небо
и утеса кремнистый гребень,
откуда с расщелин высоких
брошена вниз дорога,
как веревка,
держащая якорь спасенья.
Ее окаймляют обрывы,
а сучковатый терновник
глядится в отвесную пропасть;
кустики горькой полыни
в трещинах тесных
полны одинокой печали…
Над домом и песнею детства
старый дуб зеленеет.
Диким утесам
весна дарит птиц щебетанье,
лето — жарой опаляет
и в трещинах змей разводит;
росой, как слезами
и вздохом печали,
сыплет золото осень
на отвесную эту дорогу.
Ветер над гребнем утеса
лохматое облако треплет,
утес от меня скрывая
дождя и тумана завесой.
Росли возле дуба
я и тоненький стебель.
Орел наблюдал за нами
со скал, где его крепость,
где ранней весною
в сухих камнях
траву молодую встретишь,
пчел и свежие листья.
Я вижу минувшие годы,
дорогой идущие в гору,
там всё обещает счастье
на каменных копьях вершины,
где разбиваются тучи
о трон золотого солнца.
В грозу на его ступенях
ломались тяжкие тучи,
как челюсти волчьи,
и дорога та называлась
улица Златна.
Была эта улица первой,
которую я увидел,
и долгое время думал,
что улицы все на свете —
это крутые дороги,
какими и люди, и зори
спускаются с круч отвесных.
Заря над горой гасит звезды,
и я никогда не забуду,
как в дождик
и вечером темным
искал я улицу эту
и видел только,
как об ее уступы
гасят грозы
небесные свечи.
На этой отвесной дороге
золота не искал я,
но я следы там видел
гайдуцких отрядов.
И на рассвете часто
находил оловянные пули,
расплющенные о камень,
да гильз пустые глазницы,
затянутые паутиной.
Выщербленные камни
ни улиц не знали, ни злата.
Так при чем здесь названье «Златна»?
Никто не мог мне ответить,
ни когда вынимали занозы
терновника из моей пятки,
ни когда бинтовали туго
об эти острые камни
ободранные колени.
Читать дальше