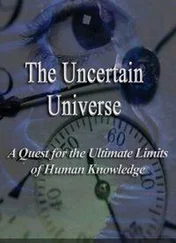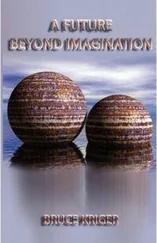От мессий безвременных визитов
Понапрасну хворью не болей!
Поселился мелкий инквизитор
В каждом из известных нам людей.
В суете подвыпившего хлева,
В сонме простодушных поросят
Мы не ели от чужого хлеба,
Ну, а если ели, нам простят.
Мы не пили молока парного
От святых коричневых коров.
И когда пробило полвторого,
Мир был прежним — весел и здоров.
И напрасно по–мужичьи плакал
В Дельфах средь осколков и костей
Старый перепрятанный оракул,
Ожидая скверных новостей.
Можно мерить сапоги и клипсы,
Ибо в суматохе перемен
Заменили нам Апокалипсис
На уже привычный Happy End.
Из римских недобрых декад
Писал себе письма Сенека
И в них, своей мудрости рад,
Бродил всё от века до века.
И надо ж, к исходу среды
Дошли до меня без конверта
Его небоязнь беды,
Его нестрашение жертвы.
И мир засиял, как венец,
От томной крупицы восторга,
Постиг я тогда наконец
Свою небоязнь острога,
Хворобы, долгов, нищеты,
Друзей ядо–лживого жала,
Свою небоязнь судьбы,
Свое неприятье Державы.
Напрасно шипели клопы,
Что трахнутый я неврастеник.
И он сторонился толпы,
И он там прослыл как бездельник.
Но вены безропотно вскрыл
Сенека по просьбе Нерона,
И голос его отступил,
Как эхо немого перрона.
И я, словно старый сундук,
Вобрав в себя вирши и саги,
Надулся и злюсь, как индюк,
От бликов вчерашней отваги.
В дождь Милан нам судьба показала
С белогрудой громадой собора,
Все строения в стиле вокзала
И шатание всякого сброда.
А зонты, словно чёрные банты,
Огибали промокшие двери.
Мы бродили по улице Данте,
Того самого, что Алигьери.
Хоть Милану толпа и не мила,
Сам погряз он в толпе, как мошенник.
Ни кола, ни двора, ни стропила,
Только Маме купили передник.
Лет в двенадцать решил я железно,
Что в Венецию мне не попасть,
К недоступному же, как известно,
Разбухает огромная страсть.
И теперь, очутившись в Милане,
От неё километрах в трёхстах,
Я взбурлил, словно буря в стакане,
Расстоянье читая с листа.
В обветшалой лагуне, как в тесте,
Вязнул город моих юных грёз,
Гондольер нас надул тыщ на двести
И по грязной канаве повёз.
Мимо нас проплывали гондолы,
Мы качались средь песен и лиц
Вместе с банками от кока–колы
И останками умерших птиц.
А на площади Бедного Марка,
Средь фасадов на грязных столбах,
Мы сидели, и нам было жарко
В Адриатики душных ветрах.
Мы решили, уехав из рая,
На трамвае речном тря зады,
Что Венеция — тот же Израиль,
Только с явным избытком воды.
Всё бурлило и плавилось, кроме
Чуть припудренных инеем грив,
В двухкупейном своем фаэтоне
Ты был весел и шумно игрив.
Громко чокаясь, били копыта
И чеканили буквы на снег,
Словно новая книга раскрыта,
Чудо–тройки вместившая бег.
Оставляя в несчётных подранках
Всю дорогу рапирных острот,
Ты гримасами на полустанках
Теребил суетливый народ.
Кому пел ты, Лукавому, Богу ль?
Что палил ты в нервозном чаду?
Я люблю тебя, пакостник-Гоголь,
И чего–то по–прежнему жду…
Если б ты была не так мила,
Мы бы всё толпились у аптеки,
Словно отставные ацтеки,
Исчерпав фантазию дотла.
Если б ты была не так умна,
Мы бы не селились между сосен,
Наш союз был приторен и постен,
С истиной, отжатой из вина.
Если б ты была не та совсем,
Что меня внезапно полюбила,
Я б взорвался тыщей тонн тротила,
Расплескав в пространстве белый крем.
Если б ты осталась не со мной,
Я бы всё равно приплёлся после
И нудил, как выпоротый ослик,
Что мне нужно быть с тобой одной.
Если б мы забыли этот мир,
Променяв его на плошку риса,
Я бы звал и плакал, как актриса
Или как простуженный вампир.
Если всё свершилось — мы вдвоём,
Так убьём дурное слово «если»,
Это слово выбросим из песни
И своих «друзей» переживём.
Читать дальше