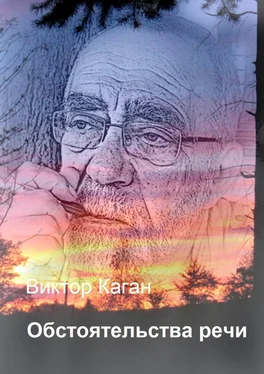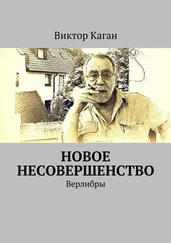2.
Каин, в усмерть умаявшись, спит.
Бог приходит сквозь о́блака вату,
где твой брат, говорит, где твой стыд?
Он в ответ: «Разве сторож я брату?
Я и сам убиваюсь, скорбя,
на тебя одного уповая,
помнишь, как он глядел на тебя,
когда ты, на него призревая,
принимал его дар от стадов?
Так ищи, не стыди за утрату.
Ветер в поле не выдаст следов,
занесёт, разве сторож я брату?»
Отоспится. Не зная стыда,
станет жить от лица от господня,
будет множить детей и стада,
прорастая корнями в сегодня.
А об Авеле что вспоминать?
Первым грузом по имени двести
будет новой травой прорастать
в том же поле, на том самом месте.
Каинята туда ни ногой —
ну, подумаешь, рвётся, где тонко.
Им бы колокола под дугой,
молл и новая бензоколонка.
Им бы только в войнушки играть,
тешить души смертельною жатвой
и разорванный мир ушивать
под молитву кровавою дратвой.
Каин, Каин, где брат твой, скажи.
О сапог вытирают ножи.
3.
Всё не так, всё не то, но всё то же,
не похоже, но вот оно, вот.
Поскреби позолоту и кожа
устыдится бесстыдных срамот.
Прикрываешься листиком фиги,
усмиряя гормоны и страх,
и читаешь мудрёные книги,
спотыкаешься на письменах.
Над страницей задремлешь, но в росах
утро вечера не мудреней,
и опять пропадаешь в вопросах,
отбиваясь от поводырей.
Как ни скажешь – щавéль или щáвель,
суп вари и вопросов нет.
Аин, Аин, где брат твой Кавель?
«Что я сторож?» – звучит в ответ.
4.
Век-мичуринец гибриды
сочиняет сам не свой.
Человеческой корриды
дух витает чумовой.
От столицы до окраин
небо в молниях висит.
Каин, Авель, Авель, Каин —
кто убил и кто убит?
Мир гибрид, война гибридна,
правит бал ангелобес
и за тучами не видно,
как горит небесный лес.
Панацеей или ядом
наливаются цветы?
Время тянется за взглядом
полоумной слепоты.
Хрипнет песня, рвётся голос,
сохнет порох в колобке,
чёрт покручивает волос,
ржавый меч на волоске.
5.
Молочным зубом день повис на нитке,
попрятались по ракушкам улитки,
по гнёздам птицы, люди по домам.
Теней на стенах танец неприкаян,
как будто ищет брата бедный Каин,
чтобы, как прежде, всё напополам.
Он говорит отцу, что он не сторож,
ищи, мол, сам. А совести заморыш
ломóть преломит – не с кем разделить.
Он станет сеять хлеб, пасти скотину,
забудет, как делить наполовину,
завьёт верёвочкой связующую нить.
Листок календаря шуршит в потёмках,
былое отражается в потомках,
потомки – в лужах, сэлфи, зеркалах.
Посмотришь на себя – в глазах двоится,
над братьями витает смерти птица,
голодные птенцы пищат в углах.
И остаётся только жить и плакать,
и памяти месить слепую слякоть,
и горе пить, и боли не избыть,
и обжигаться о мороза треск и пламя,
и мякоть света ощущать губами,
и Каина случайно не убить.
«Так на рассвете знобко, что впору плакать…»
Так на рассвете знобко, что впору плакать,
зябнут на травах слёзы, а в горле сухо,
и пересохшая напрочь яблок глазных мякоть,
и одуревшее в усмерть от тишины ухо.
Со стороны глянешь сам на себя – нафиг,
что бы заткнулся что ли чёртов будильник-кочет?
Жди, он заткнётся, как же… Сонного бреда трафик
месит уныло слякоть и рассосаться не хочет.
И не проснуться толком и не заснуть обратно.
Хрустнет суставами утро, тихо вздохнёт джезва,
мол, как ни ясно солнце, но и на нём пятна,
только какая разница, если взглянуть трезво?
Если взглянуть трезво, разницы не заметишь.
Резво секундная стрелка чешет слева направо.
Каждому дневи довлеет злобы его ветошь.
В каждом глотке смешаны снадобье и отрава.
Выпить с утра – грядущий день от забот свободен.
В пьяницы что ли податься или в аристократы?
Господи-боже, чем же мир тебе так неугоден,
что ты вздыхаешь грустно: «Да, натворил когда-то»?
Да не грусти, не надо.
День наступил и ладно.
Чай, не впервой, перебьёмся,
глядишь и выскочим в дамки.
Что-то лопочет утро – что из того, что нескладно?
День прижимается к жизни, словно ребёнок к мамке.
Читать дальше