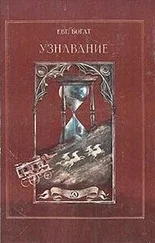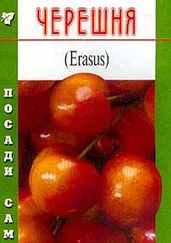1 ...6 7 8 10 11 12 ...17
Шофёр преславный, Аарон,
вознёсший нас в своё Ужгули,
открытое со всех сторон
богам и небу – гули-гули!
Ты поднимал нас, патриарх,
рискуя сверзиться в колодец
ущелья, в кузове свой прах
тряс жалкий избранный народец.
Обетованная земля,
где снег с полей сошёл в июне,
где птица плавно с ледника
слетит сюда и что-то клюнет.
Дымок горчащий кизяка,
мечта ручья – рекой растечься,
и поступь мерная быка
в неспешный стих хотят облечься.
Но это года через два,
когда душа слегка забудет
и запахи умрут в слова, —
когда уже не вспомнить будет,
как в абсолютной полноте
свершается обетованье,
и горы в грузной немоте
сиянье обратят в слиянье.
О, поэтический товар,
тебя гостям как не пристроить!
Нас уверяют, что Тамар
и здесь успела понастроить.
С лукавством, свойственным послу,
осматриваю камни, щели,
уже спускаясь в крутизну
своих пространств, своих ущелий…
5. Армения
Кладка древнего храма на каждой горе, —
вот где славно устроились мёртвые души.
Вот и всё, любопытный, о древней поре:
кто-то жил, кто-то строил и кто-то разрушил.
Ты забрёл посмотреть? На здоровье, смотри.
Можешь тронуть рукой проходящую тучку,
приобщайся к местам, где веками пасли
толстозадых овец средь верблюжьей колючки.
А теперь вот закат обещает полям
неплохую погоду на дни наших странствий…
Ничего, ничего, кроме свойственной нам,
угасающей боли гражданства.
6. Тбилиси
Тёплый город с персиянским рынком,
я воспоминание устрою,
как устраивают праздник по старинке
горцы над извилистой Курою.
Первым делом будет ночь и запах
пыльных листьев и вина сухого,
темнота в тепле на задних лапах
давится от звёздного улова.
На второе можно жаркий полдень:
липкий пот окупится сторицей
ощущеньем тысяч прошлых родин,
газировкой с братьями Лагидзе.
Грузной тенью город вечереет.
Солнце село. Можно жить и думать.
Медленно, как виноград, созреет
мысль о жизни без тщеты и шума.
Смуглый воздух – кожи продолженье,
ничего не весящая малость.
Город прост, как просто предложенье
жить вдвоём, когда подступит старость.
И тогда мгновенная зарница,
как предвестье бедствий и пожаров,
выхватит на миг крестьянок лица,
прикорнувших у мешков с товаром.
7
От путешествия немного остаётся.
Причалил пароход. Приморский город пуст.
Немного трезвости на завтрак достаётся,
немного трезвости и доля свежих чувств.
Ты в этом городе никто, чужой, разиня,
и видишь всё, как есть. Что может быть ясней
рассветной мистики закрытых магазинов,
пустынной улочки и тупика за ней.
Общение легко, как в ожиданье водки, —
необязательною близостью согреюсь:
усатый человек, похожий на селёдку,
«побреюсь, – говорит, – пойду, побреюсь».
«Тишайший вечер. Загород. Жара…»
Тишайший вечер. Загород. Жара
спадает. Просыхает майка.
Я соглашаюсь с Пушкиным – пора.
Кричит несытая и вечно злая чайка.
Почти несносная разлита благодать,
вдали, как в раннем детстве – пианино,
перебирают старые этюды.
Идёт война, но далеко отсюда.
Мы в райском уголке, и в наши спины
не тычут палкой, – что же больше ждать!
«Они не спят по ночам в шкафу, …»
Они не спят по ночам в шкафу, —
Кафка температурит и повторяет в бреду:
«Истинней нет ничего этих зыбких, упорных
зверей,
их искорёженной страсти…»
Рильке, вбирая исторгнутый свет
тихо его возвращает.
Сократ чуть лукавит: «Ты так полагаешь?..»,
цепкость ума его держит на привязи мир.
Мандельштам, слегка задыхаясь,
лёгкое слово над каменным смыслом несёт,
и изумлённо следят Шварц и Шекспир
за спектаклем,
верить в который невмочь.
А в книге книг
всё спорит с Богом одинокий Иов
и просит отступиться от него,
не обращать вниманья на такую малость,
как человек, дать проглотить слюну…
«Собака тоскует в трамвае…»
Собака тоскует в трамвае,
скулит и рвётся на волю,
и плачет, недоумевая,
зачем это движется поле?
Читать дальше