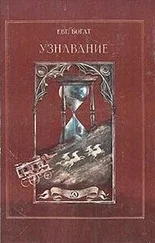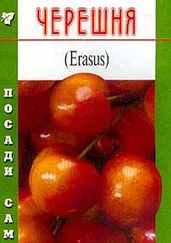Не смотри с укором на безумье пляски,
им не так уж часто выпадает праздник.
Отдадут, как дети, не вступая в торги,
за минуту радости вековые скорби.
Брат ты мой возлюбленный, Иакова отрада,
да воздастся каждому по делам награда!
Нет твоей заслуги, моего бесчестья, —
волю нас Пославшего исполняли вместе.
Хорошо ли, худо ли, суд не в нашей власти,
всё послужит Господу, даже наши страсти.
И какая музыка – сколь бы ни был хрупок —
когда полон Замысла каждый наш поступок:
ты – любимой первенец, я – тебя продавший,
и над нами Видящий, это разыгравший.
Он зачтёт строптивое наше послушанье,
да воздастся каждому за его страданье!
Я на диване, мир уютен,
мне дочитают книжку завтра,
среди Иванушкиных плутен
дрожит стекло от гула «Татры».
И бабушкин счастливый «штрудель»
остынет на окне, и вечер
осеребрит фонарным чудом
широколиственное вече,
прочертит сеть венозной тени
на потолка белейшем меле,
и кровь прозрачных сновидений
дохлынет до моей постели.
И запах дома, запах дома, —
как мне сейчас ты остр и нужен, —
оберегает от погрома
огромной жизни, что снаружи.
Откуда взял – туда пусть и вернётся.
Ты отпускаешь нынче с облегченьем
слепое пляшущее пятнышко колодца
и бабушкино крохкое печенье.
Ты отпускаешь тинный запах моря,
его покатый плеск порою штиля,
и детское отчаянье историй
с русалочьи звучащим словом Лиля.
Не впасть бы только в грех перечисленья
и не обеспокоить словом эти
на дне души уснувшие селенья, —
им хорошо в давно погасшем свете.
Пусть в беспредельной шири растворится,
что оболочка глаза отражала,
а всё, чему положено случиться,
лишается пронзительного жала.
Пролог
Когда открыли дверь и сквознячок метнулся
задев его горячее лицо,
он медленно в кровати повернулся,
за мимолётным следуя певцом…
…он встал и подошёл к окну:
на потрясённой августовской тверди
дрожанье звёзд рождало тишину.
Он вспомнил, что еврейский ангел смерти
был тьмой очей, уставленных во тьму.
И, словно мир, с которым разыгрался,
неосторожно поднеся к лицу,
внезапным светом изнутри взорвался…
И неизвестно почему
вдруг Грузия припомнилась ему,
и он к стеклу горячим лбом прижался.
1
Жара, автобус кольцевой,
стихия рваных чувств
накалена, над головой
волос ершится куст,
и пахнет жухлою травой.
Рябит дороги полотно.
Возможностей не счесть:
дремать, влюбиться (заодно
соседка рядом есть),
глазеть в немытое окно.
Автобус водит караван
далёких гор, и плюс
свободы непростой обман.
Я счастлив, как зулус,
когда он садит в барабан.
Мне хочется сойти на крик,
что это – жизнь моя,
что я теряю в этот миг
частицу бытия…
что, вот, я вновь её настиг.
2
Здесь было плохо одному
плохому человеку.
Он был поэтом. И ему
так было ясно почему
он полумёртв. Калека.
Он был романтиком ещё,
и горы так прекрасно
существовали, что отсчёт
от них не ставил личность в счёт.
И это было ясно.
Он ставил столик на крыльцо,
писал: «в долине Дагестана…»
Взглянув на скучное сельцо,
он морщил круглое лицо
и рифмовал со словом «рана».
– Смешней всего, коль этот бред
осуществится… впрочем,
здесь скучно, да и сладу нет
с подательницей благ и бед, —
что зря себя морочим?!
Он был романтиком, хотя
не столь уж это важно;
и, если он писал «дитя»,
то с умиленьем, не шутя.
Ему бывало страшно.
3
События, которых нет,
в гостинице, на берегу Севана,
в окно, как стук негромкий, – свет,
и мы с тобой уходим рано,
глухим горбатым пустырём,
рассвет, как воду из стакана,
омытыми глазами пьём.
Садимся у воды. Колючки
счищаем. Ничего не ждём.
Как говорят поэты, тучки
проносят свой летучий бред,
как будто всемогущий лучник
их посылает следом в след.
Сидим. Спокойно нам и странно.
Как хорошо! Событий нет
в гостинице, на берегу Севана.
4
Читать дальше