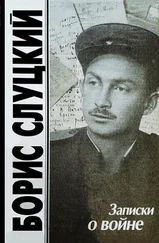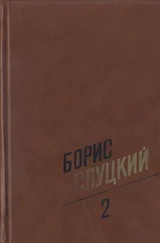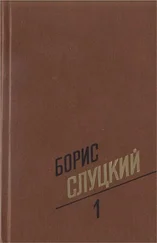Беру его в товарищи,
в сопутники беру —
у праздного, у болтающего
есть устремленья к добру.
Впал в отчаяние, но скоро выпал.
Быстро выпал, хоть скоро впал.
И такое им с ходу выдал,
что никто из них не видал.
Иронически извиняется,
дерзко смотрит в лицо врагам,
и в душе его угомоняется
буря чувств, то есть ураган.
Он не помнит, как руки ломал,
как по комнате бегал нервно.
Он глядит не нервно, а гневно.
Он уже велик, а не мал.
Отец был Сергей и шутник
и сына назвал Александром.
Не думал, не понял, не вник —
обрек на который оброк.
Вот так этот тезка возник,
с таким же горячим азартом
и жадностью к чтению книг
и к станциям дальних дорог.
А то, что таланту судьба
ему уделила не много, —
ну что ж, верстового столба
в окне и стихов на столе
хватало ему за глаза,
и, пушкинской лучше, дорога,
железной дорога была,
что мчала его по земле.
Как редко читают стихи,
особенно в жестком и твердом
вагоне, где книга дрожит,
немедля фиксируя стык!
Я долго его наблюдал,
читая и в профиле гордом,
и в неординарных руках,
а также в глазах непростых.
Откуда приходим к стихам?
От вдруг полюбившейся строчки?
От радиопередач?
От жизненных передряг?
Вот так мы приходим к стихам.
А он и родился в сорочке.
От имени с отчеством он
нежнейшее принял из благ.
И без наглости,
и без робости,
и не мудро,
и не хитро,
как подсаживаются в автобусе,
как подсаживаются в метро,
он подсел в эту жизнь —
на всю жизнь,
и отсаживаться не захотелось.
Вместе им
и пилось, и елось.
Полностью сбылось
все, что пелось
в их сердцах,
когда, такт и честь
соблюдая
в мельчайшей подробности,
он без наглости
и без робости
ей сказал:
— Позвольте присесть!
Младенец с иронической улыбкой
не лыком шит,
хотя не вяжет лыка!
Младенец иронически смеется.
Сечет, наверно. Понимает все.
А вроде бы мозгляк. Ни то ни сё.
И как ему ирония дается?
Я вырабатывал ее лет сто.
Не выработал. Ничего не вышло.
А несмышленыш, ну ни сё ни то,
наверно, думает: закон что дышло.
К какой досрочной мудрости привит,
он слабо улыбается сквозь лепет?
Ирония его уста кривит.
А может, это просто зубик лезет?
Как ты крыльями ни маши —
не взлетишь над самим собой,
так что лучше людей не смеши
несуразной своей судьбой.
Ты уж лучше гни свою линию,
понемногу спрямляй кривизну
и посматривай изредка в синюю,
во небесную
голубизну.
— Ах, глаза бы мои не смотрели! —
Эти судорожные трели
испускаются только теперь.
Счет закрылся. Захлопнулась дверь.
И на два огня стало меньше,
два пожара утратил взгляд.
Все кончается. Даже у женщин.
У красавиц — скорей, говорят.
Из новехонькой сумки лаковой
и, на взгляд, почти одинаковой
старой сумки сердечной
она
вынимает зеркальце. Круглое.
И глядится в грустное, смуглое,
отраженное там до дна.
Помещавшееся в ладони,
это зеркальце мчало ее
побыстрей, чем буланые кони,
в ежедневное бытие.
Взор метнет
или прядь поправит,
прядь поправит
и бросит взгляд,
и какая-то музыка славит
всю ее!
Всю ее подряд!
Что бы с нею там ни случилось —
погляди и потом не робей!
Только зеркальцем и лечилась
ото всех забот и скорбей.
О ключи или о помаду
звякнет зеркальце на бегу,
и текучего счастья громада
вдруг зальет, разведет беду.
Столько лет ее не выдавала
площадь маленького овала.
Нынче выдала.
Резкий альт!
Бьется зеркальце об асфальт.
И, преображенная гневом
от сознания рубежа,
высока она вновь под небом,
на земле опять хороша.
Дядя, который похож на кота,
с дядей, который похож на попа,
главные занимают места:
дядей толпа.
Дяди в отглаженных сюртуках.
Кольца на сильных руках.
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,
тетя сидит.
Читать дальше