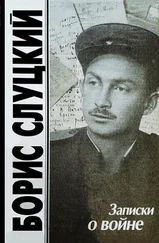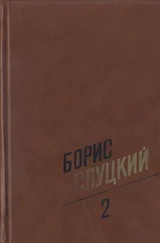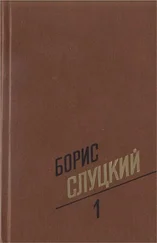Старик и три его козы,
пройдя искусы зимних тягот,
за год состаренные на год,
живут! По ним — не лить слезы.
Старик мотает головой,
но все-таки еще живой.
Козел бородкою мотает,
но все ж не в небесах витает:
живая жизнь его питает
зеленой, сочною травой.
И я, который их нашел
живыми и в хорошем стиле,
нелегкий этот год прошел,
как будто бы меня простили
и вновь за пиршественный стол,
пусть где-то с краю, посадили.
Йог, который после работ,
после всех забот и собраний,
все же на голову встает
и стоит, молодой и странный.
Два часа, два с половиной,
даже три часа на голове!
В проносящейся мимо лавиной,
в равнодушной к йогам Москве.
Йог, который сердечный ёк,
боли в печени, в кишке шишки
усмиряет, съедая паек
из растрепанной взятой книжки.
Он бредет с улыбкой восточной
по-над западной пустотой,
деловитый и даже точный,
сложный, в то же время простой.
Он, по коммунальной квартире
все расхаживающий в трусах,
он, в шумливом и сложном мире
попадать не хотящий впросак, —
сыроядец, молокопийца
ради странных своих идей,
успевает он как-то скопиться,
накопиться между людей.
Он склоняется над Европой,
он толкает ее к траве:
ну, чего тебе стоит! Пробуй.
Постоим на голове.
Как тоскливо в отдельной квартире
Серафиме Петровне,
в чьем мире
коммунальная кухня была
клубом,
как ей теперь одиноко!
Как ей, в сущности, нужно не много,
чтобы старость успешнее шла!
Ей нужна коммунальная печь,
вдоль которой был спор так нередок.
Ей нужна машинальная речь
всех подружек ее, всех соседок.
(Раньше думала: всех врагинь —
и мечтала разъехаться скоро.
А теперь —
и рассыпься, и сгинь,
тишина!
И да здравствуют ссоры!)
И старуха влагает персты
в раны телефонного диска,
и соседке кричит: — Это ты?
Хорошо мне слышно и близко!..
И старуха старухе звонит
и любовно ругает: — Холера! —
И старуха старуху винит,
что разъехаться ей так горело.
Дед и бабка учат ходить
крупного, серьезного внука.
Это первая в жизни наука
в серии: овладеть — победить.
В серии: решиться и смочь —
это первое в жизни деянье.
Надо преодолеть расстоянье.
Самому себе надо помочь.
Молод дед, и бабка юна —
ныне в моде ранние браки.
На буреющей летней травке
в майке он, в сарафане она.
С той поры, как свой первый шаг
сами сделали,
миновало
сорок лет с небольшим. В ушах
грохот скорости, вроде обвала.
Но сейчас не об этом речь.
Речь о внуке. Его отвага
их пугает. Как остеречь
от опасностей первого шага?
Самостоятельный! А прежде слово «смирный»
с значительной произносилось миной,
что, мол, смирен и, стало быть, хорош.
А нынче смирных ставят ни во грош.
А нынче смирных ни во грош не ставят!
Смиренье вечными снегами стает,
как только стает — вовсе утечет,
и смирные, они теперь не в счет.
Но самому стоять! Самостоятельно —
желательно, прекрасно и сиятельно!
По собственному поступать уму
и разбираться лично. Самому!
Самостоятельный! И значит: сам стою,
отвергнувши опеку и подпоры,
и ввязываюсь, если надо, в споры,
и этого нисколько не таю.
Чуть кончилась математика,
ребята бегут во двор.
Сангвиники бьют флегматика,
нарушившего уговор.
Темперамент — характеру,
отвесивши пару плюх,
немало сил истратили,
зато укрепили дух.
Еще до звонка историку
осталось десять минут.
Холерики меланхолику
шею еще намнут.
«Смешливость, а не жестокость…»
Смешливость, а не жестокость,
улыбка, а не издевка:
это я скоро понял
и в душу его принял.
Я принял его в душу,
и слово свое не нарушу,
и, как он ни мельтеши,
не выброшу из души.
Как в знакомую местность,
вхожу в его легковесность.
Как дороге торной
внезапный ухаб простишь,
прощаю характер вздорный,
не подрываю престиж.
Читать дальше