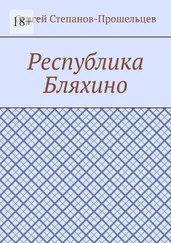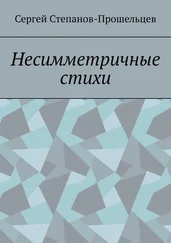Даже первопоследнее это свиданье
ожидать нам едва ли не вечность пришлось.
Мы взрослели. Вселенная делалась шире.
Как-то путалось всё. Нету ясности – дым.
Мы спешили взрослеть. Мы так долго спешили,
что уже по инерции дальше спешим.
Суетимся, живём рядом с трепетной тайной,
и, не зная о ней, длим впотьмах бытиё,
но совсем не случайно, совсем не случайно
мы встречаем далекое детство своё.
Воскрешая мгновенье из мрака забвенья,
просигналит оно на дороге большой,
что мечта твоя стала бесплотною тенью
той мечты, что когда-то владела душой.
* * *
Октябрь безутешной вдовою
рыдает, и в сумерках дня
окатит опять с головою
карминовым ветром меня.
Как горько, что время состарит
что было всегда молодым!..
Встревоженной робкою стаей
летят эти листья сквозь дым.
Летят они, сморщены зноем,
как тени погибшей души,
чтоб этой холодной волною
напомнить, что время спешит.
* * *
Июль, как клубника, сочен, лягушки болото месят.
Лиловым бархатом ночи задрапирован месяц.
Порой тишина такая, что слышно, как сердце бьется, —
как будто вода стекает в прозрачную даль колодца,
когда голубым бериллом вдруг чиркнет звезды кресало…
И сладко душа грустила
о том, что сама не знала.
Не жал комбат мне руку напоследок —
он, как ищейка, шёл за мной по следу,
хотел в дисбат отправить, на курорт.
Но я слинял. Я в поезд сел, что в девять
и ничего, увы, не мог поделать
с улыбкой, что растягивала рот.
Я ехал долго. Были пересадки,
а за окном столбы играли в салки,
мое воображение дразня,
и в этом ритме ровного движенья
происходило к дому приближенье,
и замирало сердце у меня.
Восторг крепчал. Стремительнее пули
я вылетел, хмелея от июля,
лицо сияло, словно лунный диск.
Задев мешок, свалив какой-то ящик,
я отыскал автобус проходящий
с табличкой «Элиста—Невинномысск».
Урчал мотор. Я отодвинул штору —
и дух перехватило от простора
холмистого. Не верилось глазам.
То делалось мне холодно, то жарко:
мелькали Извещательный, Татарка,
и, наконец, он показался сам.
Здесь, у подножья Комсомольской горки,
повеял ветер влажновато-горький —
он был упруг, как в градуснике ртуть.
Он был отнюдь не робкого десятка —
он Пушкину распахивал крылатку,
такой же странник, чей неведом путь.
И в непрерывном колыханье веток
я обнимал тот непослушный ветер,
и были с ним мы лучшие друзья.
Он подсказал мне, этот ветер шалый:
есть города прекраснее, пожалуй,
но есть такие, без каких нельзя.
* * *
На исходе сентябрьских дней
я пойму среди листьев балета,
что с годами твой образ бледней,
словно месяц с лучами рассвета.
С той поры не один уже год
город прячется в жёлтые шали,
и сквозь листьев прощальный полёт
я прощаю всех, кто не прощали.
Всех, кому не дарил я тепла…
Велики эти скорбные списки.
Осень, как кредитор, сберегла
все мои долговые расписки.
А вокруг – безответная ночь.
дожидаюсь рассвета, как чуда.
Ну, кому бы, кому бы помочь,
если помощи нет ниоткуда?
* * *
Конус часовни. Слева
ржавой ограды копья.
Кладбище. Запах тлена.
Склепы. Кресты. Надгробья.
В этом покое вечном
девочка в платье белом
весело и беспечно
«классики» чертит мелом.
Патина в прутьях сквера.
Глупых синиц усердье…
Как ты наивна, вера
в собственное бессмертье!
Нам никуда не деться:
обречены с рожденья.
Боже, продли нам детства
сладкое наважденье!
Мир, когда в плеске ночи,
необъяснимо светел,
счастье тебе пророчит
звездный зелёный ветер.
* * *
«Я тебя туда поведу,
где берут лишь улыбкой мзду,
где раздолье лунному льну.
Хочешь? Я ведь не обману.
Там причудлив полян узор.
Там всегда избыток весны.
Там глаза раскосых озёр
влагой ласковою полны.
В этой светлой вешней воде
хороводит рыбок табун.
Там поможет тебе в беде
очень добрый старый горбун…».
Говорила она в ответ:
«Не могу я поверить в бред.
Ты на карте мне покажи
той страны твоей рубежи,
очертанья прибрежных скал.
Ты все выдумал, прямо стыд.
Сказка. Ты от нее устал,
хватит, кажется, атлантид!
Злы, уродливы горбуны,
мстят красивым, страшна их месть.
Нет на свете твоей страны…»
Читать дальше