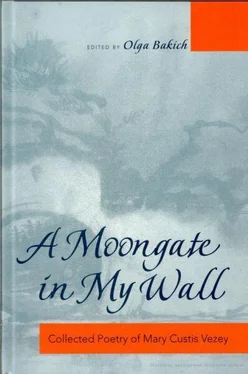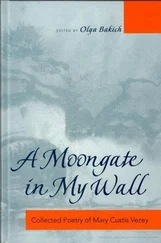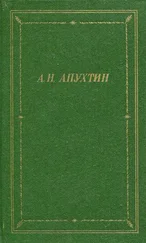Вот и август уже растрачен —
золотые розданы дни —
ничего не получишь сдачи,
как назад теперь ни мани.
За рекой, над рыжей осокой
птичья стая клином на юг
в белом небе взвилась высоко
от налета северных вьюг.
Не смотри в окно исподлобья
ожиданьем темным томим,
что дожди непробудной дробью
застучат по окнам твоим.
Самой черной, пустынной ночью
возле складок спущенных штор
не забудь: ты видел воочью
летних дней золотой узор!
28 октября 1964 г.
406. Именины («В воскресенье, к старой гостиной…»)
В воскресенье, к старой гостиной,
где накрыто шалью старинной
желтозубое пианино,
отыгравшее долгий срок,
опершись на толстые трости,
собирались званые гости —
кто пешком, а кто — на metro.
Было все нарядно и чинно,
был большой пирог именинный
(как положено, с осетриной),
были водки и были вина
и парадное серебро.
Разговор затянулся длинный,
анекдоты, смех беспричинный,
demi-tasses, бенедиктины,
а потом, ублажив нутро,
вспоминали, порой не без злости
(под романсы Паоло Тости),
тех, кто жив и кто на погосте,
и судили зло и добро.
И не слушая «хватит, бросьте!»,
перепив на последнем тосте,
хоть и чувствуя, что de trop.
баритон о руслановом росте
спел про поле и мертвые кости
и закончил… песней Пьеро.
А потом, в тишине полночной,
кто вдвоем, а кто — одиночный,
расходились в час неурочный,
когда холодно и серо,
под белесой луной восточной
и пешечком и на metro.
И как символ совсем невинный
суеты людской именинной,
задохнулся окурок — в длинной
в тонкой рюмочке Cointreau.
11 марта 1965 г.
407. «Ты не знаешь, куда ты идешь…»
Ты не знаешь, куда ты идешь,
для чего свою песню поешь,
и не знаешь, куда ты придешь
и какую утеху найдешь.
Наливается золотом рожь,
изумрудная в зелени дрожь,
одинаково полдень хорош
для бродяг, для детей, для вельмож.
Но когда ты до грани дойдешь,
ты увидишь и сразу поймешь,
что надежды твои были ложь,
что потерянных дней не вернешь,
— что ж,
ты обратно опять повернешь
и понуро назад побредешь,
не узнав, для чего и живешь
За полями, где сжатая рожь
где овраг на могилу похож,
с болью на сердце, острой, как нож
ты почувствуешь, что устаешь,
и печально итог подведешь
и, быть может, подумаешь: «Все ж,
Божий мир, вероятно, пригож,
есть и правда, не все только ложь…»
И свернувшись в комок, точно еж,
в свою темную нору нырнешь,
и усталые веки сомкнешь,
и умрешь…
16/17декабря 1965 г.
408. Поэту («Затерялась, забылась где-то…»)
Затерялась, забылась где-то
нежная юность поэта —
не осталось следов,
где прошла когда-то,
где поляна была примята
среди белых майских цветов.
Смолк последний аккорд сонета.
Выпал ландыш давно
из петлицы.
Ночь в окно —
затуманились лица,
и под желтым, скупым фонарем
этим темным, глухим ноябрем
никто не споет о нем,
не придет о нем помолиться.
Все не верили знакам, слезам,
не видали, как стлался туман
по низам,
вот, мол, только воскликнуть
«Откройся, Сезам»
— ждали чудо увидеть в пещере.
А оттуда глазом недобрым
их встречали гадюки и кобры
и клыкастые, смрадные звери —
а потом, убегая по кочкам, пескам.
прижимая беспомощно руки к вискам —
не заметили — тот на пути отстал,
не слыхали последнего крика,
и когда оглянулись дико
при финале звериного скерцо,
увидали, как кровью дымилась
гвоздика
вместо ландыша возле сердца.
18 февраля 1966 г.
409. Ноктюрн («Далеко паруса уходили…»)
Далеко паруса уходили.
Голубые туманились воды.
Голоса вечерних идиллий
отзвучали da capo al coda.
Языки огневые заката
прибрежные камни лизали
День отошел куда-то,
покидая кусты азалий.
И пусто. Только лениво,
будто нехотя расставаясь,
холодные губы отлива
трогали мокрые сваи.
И черного мола торса
силуэт от мели до мели
в темноту глухую простерся
до уже невидимой цели.
Читать дальше