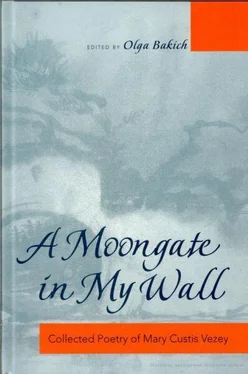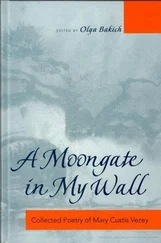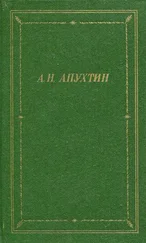206. «Мы недоброй сказке не поверим…»
Мы недоброй сказке не поверим,
старую прогоним прочь Ягу.
Подойди! Высок и весел терем,
я тебе навстречу прибегу.
Пусть узнает мир, как мы богаты,
как нестрашно нам и как светло:
видишь, крылья красного заката
бросили огонь в мое стекло!
207. «Беленькое платьице…» [121] It was later included in the collection Golubaia trava, p. 17 under the title «Плач.»
Беленькое платьице,
белая кровать,
больше никогда тебя
мне не целовать.
Белый венчик матовый,
белая свеча,
белы губы сжатые
навсегда молчат.
Плачет сердце, есть о ком,—
помер человек…
Падай мелким крестиком,
мертвый белый снег…
208. «Чем выше и блистательней полет…» [122] The manuscript has a notation «31 августа ночью, у В. на даче».
Чем выше и блистательней полет,
тем человек больнее упадет,
и чем великолепней свет сиял,
тем жальче тот, кто в темноту попал.
Дай, Боже, ровный путь и тихий свет, —
спокойнее житья для сердца нет!
209. «Я сделана из песен и огня…»
Я сделана из песен и огня,
но ты не знаешь, не поймешь меня.
В моих стихах старинный отражен
тебе — увы! не видевшийся сон,
и музыку любимую свою
я в голосе твоем не узнаю.
Вот отчего тот путь, где прохожу,
я никогда тебе не укажу.
210. «По небу тучи серые ползут…» [123] In one of the copies of the collection Mary Vezey added a handwritten dedication: «B.B.» See note on poem 54.
По небу тучи серые ползут,
садится солнце, день осенний тает.
Ах, если грустно делается тут,
об этом никогда никто не знает,
никто не взглянет и не подойдет,
никто улыбкой ласковой не встретит
и нежным именем не назовет,
как раньше, как когда мы были дети.
Все как-то иначе, совсем не так,
как начиналось. Только небо то же,
и так же пахнет вечером табак
в саду, немножечко на наш похожем.
Пусть улетают в край, где вечный зной,
куда-нибудь на Яву или в Ниццу,
расставшиеся с северной страной
еще во что-то верящие птицы.
Но звезды опадают, как мечты,
которым стало в небе не под силу,
которые упали с высоты
в свою земную жалкую могилу,
и сердце человеческое вдруг
так горько знает, что оно устало,
что солнца нет, что замкнут вечный круг
и что звезда — последняя — упала.
211. «Нелепы в жизни перемены…»
Нелепы в жизни перемены…
Друзей уносят поезда,
и прочь уходят морем пленным
большие серые суда.
И города сейчас не те же,
в которых раньше я жила,
и ночью сны бывают реже,
и неба синь не так светла.
Лишь сердце перемен не знает:
оно растет, уходит вдаль.
но в глубине своей ласкает
все ту же радость и печаль,
и самых ранних лейт-мотивов
не изменят в его струне
паденья в пропасти с обрывов
и взлеты снизу — к вышине.
212. «Я не Мария больше: только Марфа…»
Я не Мария больше: только Марфа.
Свои мечты я продала за труд.
Покрыта пылью золотая арфа,
ослабленные струны не поют.
Способно и к труду привыкнуть тело,
и может сердце, кажется, забыть
о том, как раньше бредило и пело
и не умело по-земному жить.
Но только иногда далеким звуком
давнишний сон напомнит о себе;
о, иногда — нет равных этим мукам
в железной человеческой судьбе, —
и сердце опустевшее, земное,
познавшее работу и покой,
мучительно забьется и заноет
и до краев наполнится тоской.
и долго будет рваться к тем планетам,
которые оставило давно, —
не зная, что отвергнутого света
ему уже увидеть не дано.
213. «Не уложишь в ларец драгоценный…»
Не уложишь в ларец драгоценный
золото деревьев на закате,
взлет волны серебряной и пенной,
жемчуг слез, которые растратил.
Не найдешь и не услышишь снова
звуки раскатившиеся песни,
не подымешь брошенного слова,
будешь тщетно говорить — «воскресни!»
Кто отверг — того судьба страшнее,
спохватился — да уж будет поздно;
будешь горько вспоминать, жалея,
что пошли дороги наши розно.
Читать дальше